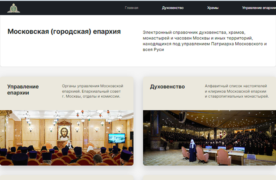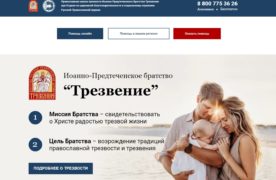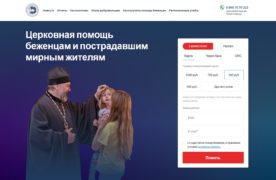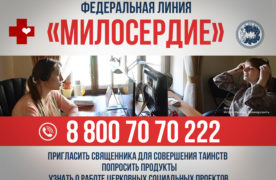26 января 2018 года в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя состоялась конференция «Православное краеведение и просвещение. Женский подвиг в истории Церкви (к 100-летию создания Союза православных женщин)».
26 января 2018 года в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя состоялась конференция «Православное краеведение и просвещение. Женский подвиг в истории Церкви (к 100-летию создания Союза православных женщин)».
С докладом «Письма Варвары Александровны Платоновой, старосты Высоко-Петровского монастыря, как источник по истории православной Москвы в 1920-30-е годы» выступила специалист Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сотрудник историко-архивной службы Высоко-Петровского мужского монастыря Е.Г. Балашова.
Варвара Александровна Платонова (1884 — после 1942?[1]) родилась в Санкт-Петербурге в семье мещан, отец-генерал[2] был «личным» дворянином. Большим событием в ее жизни стало знакомство в 1905 году со ставшим впоследствии известным ученым, физиологом Алексеем Алексеевичем Ухтомским, родным братом епископа Андрея (Ухтомского). До революционных событий 1917 года она жила с семьей в Санкт-Петербурге, потом перебралась в Саратов, а оттуда в 1920 г. переехала в Москву.
Семья Платоновых до революций посещала находившуюся неподалеку от их дома церковь Морского корпуса, но Варвара Александровна, всем сердцем искавшая живого религиозного чувства, бывала удручена почти повсеместными в то время «церковными шаблонами и примелькавшейся формальностью богослужений»[3]. Алексей Ухтомский, рожденный в единоверческой семье и остававшийся верным этому религиозному направлению всю жизнь, несмотря на недовольство семьи Платоновых, привел Варвару в единоверческую церковь. К единоверцам она приходила и позже, но, скорее, как к добрым друзьям, оставаясь прихожанкой храмов Русской Православной Церкви.
Информацию о Варваре Александровне мы получили из трех групп источников — это документы официального взаимодействия общины верующих Высоко-Петровского монастыря и Моссовета, хранящиеся в Центральном архиве города Москвы, следственное дело Р-27416 1933 года, по которому Варвара Александровна была арестована, хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ, и обильный и наиболее освещенный в литературе источник — ее переписка с Алексеем Ухтомским, которая продолжалась более тридцати лет — со времени их знакомства до смерти Алексея Алексеевича в 1942 году. Эти письма раскрывают историю взаимоотношений двух любящих людей, которые в течение 10 лет считались женихом и невестой, но позже их любовь стала звучать уже в своем высшем — религиозном христианском проявлении. Оба они не женились и до конца своих дней вели, по сути, монашеский образ жизни. Алексея брат упорно звал в монастырь и надеялся, что он оставит науку и тем более мысли о женитьбе едва ли не с самого начала знакомства Алексея и Варвары. Науку он не оставил. С Варварой Александровной они навсегда остались в самых нежных дружеских и максимально доверительных отношениях.
В одном из писем, через 12 лет знакомства, он писал ей: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: "Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее". <…> И во всяком случае, уйти без благословения Вашего на то я не могу. Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, "как скажет моя душа". Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решить и отход на Служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым»[4].
Достаточно подробно их переписка освещена в книге Игоря Кузьмичева «А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника»[5]. Однако больше внимания в книге уделяется письмам Алексея Ухтомского, письма же Варвары Платоновой показаны отрывочно. В своем докладе приведу несколько не опубликованных частей из ее писем, хранящихся в Санкт-Петербургском филиале Российской академии наук.
В этой переписке отражена история России, мысли о промысле Божием, об истории Церкви, а также некоторые детали, которые помогают более полно восстановить историю Высоко-Петровского монастыря, черты личности и аспекты деятельности духовного отца Варвары Платоновой — епископа Варфоломея (Ремова).
В контексте темы сегодняшней конференции и в целом воспоминаний о трагических событиях столетней давности хочу привести несколько отрывков из этой переписки. Первое — из письма Алексея Ухтомского, написанного еще в 1914 году, в начале Первой мировой войны, но которое звучит пророчески и дает очень точную оценку причин совершившейся в 1917 году трагедии, удивительно созвучного сегодняшней оценке произошедших событий.
«Враг наш германец, — пишет Ухтомский, — так ужасно пал нравственно не оттого, что национальные черты его отрицательны и злы… Дело, очевидно, … вот в чем: немцы — жертвы того господствующего понимания "цивилизации", "культуры", "культурности", "прогресса" и пр., по которому все эти вещи сводятся на удобства и различные материальные блага городской комфортабельной жизни, не говоря ни слова о нравственной культуре христианской личности. Это культура… исключительно материального человеческого быта при очень последовательном, систематическом игнорировании христианского понимания культуры и прогресса как великого нравственного труда личности над собою[6]. // <…> Всякий человек, как бы прекрасно и "культурно" ни был он обставлен в материальном отношении, неизбежно духовно одичает, снова и снова возвратится в свой первобытно-дикий образ, насколько не будет с ним Xриста и Христом основанной общественности, т.е. церковности, опирающейся на внутреннюю культуру, внутренний труд над собою христианской личности. <…> Надлежит горько подумать: уж если с немцами, при вековой и огромной культуре их, возможно было такое поразительное одичание, то и тем паче со мною случится оно, и тем скорее одичаю духовно я, если заболею тою же болезнью "материальной цивилизации" без Христа! А признаки такой болезни в русском обществе ведь уже есть! Храни от них нас Господь!»[7] Письмо завершается словами: «Пожалуйста, не бросайте этого письма»[8]. Действительно, письма к Варваре Александровне были для Ухтомского как бы вторым дневником. Он был откровенен до конца в изложении своих мыслей, переживаний, так же, как и она, когда писала ему о себе.
Среди ее писем, не датированных, хранящихся в Санкт-Петербургском архиве Российской академии наук, есть одна краткая записка, которая говорит о том, как важна была для нее его поддержка: «Алексеюшка, у нас страшное горе, Мушуня наш убит, если бы Вы пришли»[9]. Зная о семье Платоновых, это письмо легко поддается датировке. 28 февраля 1917 года за отказ идти под красным флагом впереди демонстрации рабочих и восставших матросов был застрелен муж Марии Александровны, сестры Варвары, Михаил Ильич Никольский, капитан первого ранга, командир крейсера Аврора еще царской армии. Он стал одной из первых жертв революционных событий.
В феврале 1918 года Варвара Александровна писала Ухтомскому из Саратова, куда в связи с работой она переехала из Петрограда: «Сегодня начинается неделя Страшного Суда, Второго Пришествiя Г[оспода] И[исуса] Хр[иста] <…>// Покаянные молитвы, церковные службы текущих седмиц приобретают в настоящее время особенно острое, громадное значение, как близкие нам чрезвычайно… Помните, я говорила Вам летом перед Вашим отъездом, что однажды у меня вырвалась душевная, если можно так сказать, молитва… [у] час[овни] Святителя и Чудотворца Николая, выразившаяся приблизительно // в таких словах: Господи, если нужно, чтобы через страдания и муки наши засвидетельствовалось ярко Имя Твое Святое, то пошли нам еще больше, чем мы терпим. Только не оставь нас Своею помощью!.. Видя же, как люди через страдания свои, исключительно через них почти, идут к Богу, верю все больше и больше, что по молитвам Заступницы Царицы Небесной и Святителей, Преподобных и всех молитвенников земли русской, спасет нас и возродит Господь»[10].
Вероятно, Варвара Александровна делилась в своих письмах какими-то мыслями о том, что большевики непоследовательны в своих действиях, на что Ухтомский отвечал уже 10 января 1918 года: «…Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представить себе вещи, как они есть в действительности! <…> Как же не быть принципиальному и жесточайшему гонению… Дело [у большевиков] должно идти не о притеснении, не о гонении в собственном смысле, а о принципиальном истреблении того, что объявлено «врагом пролетариата, а следовательно, врагом человечества. Итак, Вы не заблуждайтесь касательно большевизма! Это открытый враг и гонитель христианства!»[11]
В июле 1918-го Ухтомский пишет: «Здесь разнесся слух об убиении несчастного Николая II! He знаю, правда ли это. Если правда, то смерть эта будет тяжким, несмываемым пятном на русском народе и на России, которым, значит, еще придется поплатиться своею кровью сверх того, что заплочено до сих пор! Роковая судьба стояла над несчастной семьей. Царство Небесное и отпущение согрешений дай Господи тем, кто носил в душе иго Христово и скорбь по Богу!»[12]
Она же пишет ему проникновенные строки о расстрелянном 10 октября 1919 г. епископе Вольском Германе (Косолапове), ныне прославленном в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской: «Я писала Вам о печали — расстреляли моего любимого пастыря молодого епископа Вольского Германа, но это именно печаль, а не горе, он такой светлый, Христос так жив был в его душе, что наша Церковь обогатилась с его смертью только новым угодником Божиим, молящимся перед Престолом // Его за нас скорбных здесь на земле»[13]. Письмо это не датировано, но очевидно, оно написано вскоре после расстрела владыки Германа.
В тяжелые годы Гражданской войны она писала ему: «Сейчас, больше чем когда, видишь и чувствуешь, что человек раб, но хорошо, если он раб Божий, ужасно, если раб Его противника. Как тонки нити, как неуловимы // сети зла, опутывающие людей, и как велико, как несказанно огромно милосердие и милость Божья, не дающая возможности злу победы даже над отдельной личностью человека, если только в сердце его, хоть чуть, брезжит свет Христов! <…> сознание счастья быть в Церкви Христовой, чувствовать себя малюсенькой жилкой, но живой жилкой ее, дано мне это // пережитым в последние годы <…> Господу слава за всю сложность и тягость перенесенного, давшего мне то, что сейчас есть — Церковь Христова… никому, кто мне дорог, не желаю все же пережить всего того, что было переиспытано мною. Если бы не крест, не неугасаемо светящий свет Распятого на нем, было бы, пожалуй, и иное, было бы зло, а от него спаси Господи всякого. Теперь же… // я рада, что живу, рада, что через жизнь узнала жизнь»[14].
Платонова и Ухтомский старались поддерживать друг друга, пересылая, по возможности, продукты и вещи. Когда в 1920 году Платонова переехала в Москву, случились еще две важные встречи в ее жизни.
О них мы также узнаем из ее писем. В июле 1920 г. она пишет: «Очень я благодарна новому настоятелю церкви Дим[итрия] Солун[ского], устроившему пасх[альные] вечерни по воскресеньям, когда поет весь собравшийся народ с ним вместе пасхальн[ые] песнопения знаменным напевом, сам он светлый и вдохновенный, увлекает всех за собою. Он архим[андрит] Сер[гия-] Троицы, профессор Духовной академии, молодой еще человек лет 30-35». Так описаны ее первые встречи с человеком, который вскоре станет ее духовным отцом, — в то время архимандритом, настоятелем храма великомученика Димитрия Солунского, что у Тверских ворот в Москве, а с 1921 года епископом Сергиевским Варфоломеем (Ремовым).
В письме от 4 сентября того же года Платонова пишет Ухтомскому о встрече с Владимирской иконой Богородицы в Сретенской обители и об аресте отца Варфоломея: «Посылаю Вам листочки от иконы чудотворной Владимирской, что была сокровищем неоцененным Успенского большого собора, а ныне сохраняется в Строг. музеи. Господь явил нам милость Свою не увидеть ее в музеи, а поклониться ей, насладиться благодатью источаемой ею и // приложиться к ней с молитвой и елеопомазанием в церкви. Это было 25-26 августа в Сретенском монастыре, куда ее на ее праздник привезли, и где она сияла 2 дня… Сейчас она без ризы, несколько поцарапана по краям, но ее несказанная красота еще сильнее, еще яснее для всех, ненаглядная в полном смысле этого слова. Такая радость, такое счастье наполняли сердца всех за службой в эти два дня. Службу правил преосвященный Илларион, о котором я говорила Вам. Наш настоятель отец Варфоломей арестован, молимся друг за друга, веря, что Господь его словами и делом утешает тех, с которыми в настоящую минуту воля Божия его соединила. Очень он хороший! … Родной мой, Христос да будет с Вами. Любимый, будьте здоровы как духом и телом»[15].
В письме от 18/31 января 1922 г. Варвара Александровна пишет о владыке Андрее (Ухтомском), находящемся в заключении в Бутырской тюрьме, которому все время его пребывания там она оказывала посильную помощь. Надо отметить, что это замечательная черта этой удивительной женщины. Ведь владыка Андрей из-за своего брата считал ее, как он сам писал, своим «личным врагом»[16]. Она же с заботой о нем пишет его брату: «Его поместили в камеру 6-го коридора, носящего название околодка, потому что туда помещают слабых, больных… Там теплее // чем где-нибудь, кормят получше, а главное есть церковная служба, так 26 Декабря В[ладыка] А[ндрей] причащался Св. Тайн, отчего был безгранично счастлив. В записочке, которую он получил, я написала, что я видела Вас. О его освобождении хотя и очень хлопочут, но у меня складывается убеждение все больше и больше, что его могут задержать бесконечно долго, и как была вера, что только чудом, (Царица Небесная выведет его из темницы) он может скоро оказаться среди нас, так и до сейчас она горит во мне. Завтра пошлю ему открыток, бумагу и просфорку…»[17]
Именно из письма Платоновой мы узнаем о времени, не позднее которого владыка Варфоломей становится настоятелем Высоко-Петровского монастыря — письмо датировано 28 января 1922 года. И если владыку Андрея в письмах к Ухтомскому она называет «нашим» владыкой, то о владыке Варфоломее пишет — «мой»: «Сегодня послала моему Владыке письмо, где прошу его разрешить мне в одну из грядущих суббот пропустить службу в Сергиевской церкви, благословившись у него, пойти в Единоверческую на Кузнецкую улицу… Надеюсь, что Владыка мой благословит // меня послушать настоящую службу, по которой я уж очень стосковалась»[18]. В последствии строгий уставной порядок богослужений в обители, где процветало старчество и богослужения строились по уставу закрытой большевиками в 1923 г. Зосимовой пустыни, некоторые насельники которой и составили костяк клира Высоко-Петровской обители, не вызывал у прихожан «тоски по настоящей службе». В этом же письме есть свидетельство о личности владыки — его прозорливости и характере духовного окормления, а именно — желания, чтобы духовное чадо само совершало какие-то важные шаги, без прямых указаний, но руководствуясь подсказками духовного отца: «Я теперь все больше и больше понимаю и чувствую, отчего он не пускал надолго меня в Петроград, он знал, как трудно мне будет снова возвращаться в Москву. Удивительно, что до сих пор мы еще с ним не беседовали о моей поездке, 2 раза он, благословляя меня, вопросом показывал мне возможность спросить его, когда мне придти к нему, а я дурак дураком оба раза посылала к нему Ант. Захаровича, не поняв сразу, что он хочет, чтобы я сама сделала то, о чем он говорит, и таким образом пришла бы к нему».[19] После даты указано место написания письма — Москва, Высоко-Петровский монастырь.
В своих письмах Платонова упоминает об изъятии церковных ценностей в Москве, об арестах московского духовенства, о духовнике и о болезнях владыки Варфоломея и т.д. Так, 17/30 марта 1922 г. она пишет: «Дорогой мой Алексеюшка, поздравляю Вас с днем Ангела, да будет он Святой Хранитель неотступно с Вами. Как Вы живете, спасаетесь, как здоровье физическое, духовное и душевное? <…> // Владыка мой болен до сих пор, стал было попра-//вляться, да новый припадок печени снова уложил его в кровать[20]. Очень его взволновал арест прошлой недели 16-ти человек церковных деятелей как Архиеписк. Никандр Крутицкий, еписк. Илларион и Серафим, секрет. Святейшего Полозов, свящ. Хотовицкий и другие. Алексеюшка, интересно мне было бы знать, как Вы лично и как вообще в Петрограде отнеслись к Декрету об отобрании церковных ценностей и к ответу на него Свят. Патриарха. Я вижу строгую последовательность в одних и мудрый // выход другого»[21].
Как председатель Совета церковной общины храмов Высоко-Петровского монастыря Варвара Александровна впервые упоминается в августе 1924 г.[22] и до ареста в 1933 году она оставалась старостой храмов, в которых пребывала Петровская община, будучи духовной дочерью и верной помощницей настоятеля монастыря епископа Варфоломея.
В марте 1933 года Варвара Александровна была арестована вместе с другими клириками и прихожанами Высоко-Петровского монастыря и все время следствия содержалась в Бутырской тюрьме. Доноситель писал о ней: «Нелегальным сбором средств [в монастыре] руководила Платонова Варвара Алекс. — рассылая монашеский элемент по всей Москве с призывам к верующим для оказания помощи невинным страдальцам за веру Христову»[23].
В ее показаниях на следствии записано: «При церкви имеется привлеченная молодежь в послушники, которая выполняет обязанности чтецов и иподиаконствует (добровольно). Молодежь руководится иеромонахами Трифоном, Агафоном, Гермогеном, Германом, И[оа]сафом. (Эти имена повторяются практически во всех показаниях. Состав клира Высоко-Петровского монастыря был известен всем и не нуждался в сокрытии — Б.Е.). В чем конкретно заключается руководство молодежью я не знаю. Молодежь писала рапортички (помыслы) не всем духовным отцам о жизни и деятельности о чем конкретно не знаю. Нелегального сбора средств для сосланного духовенства я не проводила, заведуя церковным ящиком у меня не производились отчисления для ссыльных»[24]. По другим источникам известно, что помощь заключенным от монастыря оказывалась. Вероятно, Варвара Александровна хотела отвести удар от руководителя общины — епископа Варфоломея. И еще интересное свидетельство из ее показаний, говорящее о ней как о верной духовной дочери владыки. Дело в том, что Петровская община никогда не уходила в оппозицию к митрополиту Сергию, в этом владыка Варфоломей следовал заветам своего старца преподобного Алексия Зосимовского. Поэтому для Варвары Александровны было неприемлемо общение с теми, кто шел по пути раскола, даже если с ними ее связывало многолетнее знакомство. В ее показаниях записано: «В 1932 году приезжал в Москву сосланный епископ Ухтомский[,] с которым я имела свидание[,] и, узнав, что он расходится с митрополитом Сергием, порвала с ним связь».[25] В предъявленном ей обвинении в участии в контрреволюционной организации виновной себя не признала.
27 апреля 1933 г. Варвара Александровна была приговорена к трем годам ссылки в Казахстан[26]. Однако вскоре, а именно 8 мая того же года, вышла Инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О прекращении массовых выселений крестьян, упорядочении производства арестов и разгрузке мест заключения», в которой, в частности, предписывалось «а) всем заключенным по суду до 3 лет заменить лишение свободы принудительными работами до 1 года, а остальной срок считать условным. б) Осужденных на срок от 3 до 5 лет включительно — направить в трудовые поселки ОГПУ…»[27] Сказалось ли эта инструкция на судьбе Варвары Александровны, мы не знаем. Писем ее после 1933 года не сохранилось, но из писем Ухтомского известно, что переписка продолжалась до 1942 года.
Известно, что в 1938 и в 1939 году она посещала его в Ленинграде, приезжая из Калуги, где жила в те годы[28]. Письма Ухтомского 1940 года свидетельствуют, что Варвара Александровна не оставляла дел милосердия и в Калуге. Деньги и гостинцы, которые присылал ей Алексей Алексеевич, она передавала нуждающимся знакомым, «чтобы обогреть, обрадовать людей, а за то обогреться и обрадоваться от них», будучи «казначей для друзей»[29], как писал Ухтомский, выражая ей за это признательность. В письме в начале 1941-го он, очевидно, отвечает на ее письмо, в котором она упоминает о своей болезни, утешает и укрепляет ее. Есть в этом письме и указание на то, что Варвара Александровна и после расстрела владыки Варфоломея в 1935 г. чувствовала поддержку своего духовного отца: «Слава Богу во всем. Слава Богу и в том, что приходится переживать. <…> Вас посетила болезнь. Но Вас не покидает Ваш петровский отец и руководитель. Строится дом душевный»[30].
Последнее письмо Варвара Александровна отправила Ухтомскому в блокадный Ленинград из Калуги в июле 1942 года. Об этом Алексей Алексеевич упоминает в своем ответном прощальном письме. 31 августа того же года он скончался. О дальнейшей судьбе Варвары Александровны Платоновой нам неизвестно.
***
[1] По данным генеалогического сайта geni.com, 1946 г. Однако год рождения здесь указан неверно — 1879 г. См. по ссылке.
[2] Платонов Александр Александрович (1833-1902) (по данным генеалогического сайта).
[3] Кузьмичев Игорь. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника. СПб.: Журнал «Звезда», 2000. С. 29.
[4] Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях / Отв. ред.: Батуев А.С. Предисловие: Цурикова Г.М., Кузьмичев И.С. / СПб.: Петербургский писатель, 1996. С. 115.
[5] Кузьмичев Игорь. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника. СПб.: Журнал «Звезда», 2000.
[6] Знаком // отмечен переход на следующую страницу в цитируемом источнике.
[7] Ухтомский А. Интуиция совести… С. 63-64.
[8] Там же.
[9] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 749. Оп. 2. Д. 490. Л. 216.
[10] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 749. Оп. 2. Д. 490. Лл. 177об., 178, 178об.
[11] Ухтомский А. Интуиция совести… С. 128-129.
[12] Там же. С. 143.
[13] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 749. Оп. 2. Д. 490. Лл. 223, 223об, 224, 224об.
[14] Там же. Лл. 179об, 180, 180об, 181, 181об.
[15] Там же. Л. 190, 190об.
[16] Кузьмичев Игорь. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника… С. 76.
[17] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 749. Оп. 2. Д. 490. Л. 194, 194об.
[18] Там же. Л. 197.
[19] Там же. Л. 197, 197об.
[20] После первого тюремного заключения 1920-1921 гг. владыка Варфоломей остался до конца жизни очень болезненным человеком, о чем остались свидетельства его духовных чад и прихожан Высоко-Петровского монастыря.
[21] Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 749. Оп. 2. Д. 490. Лл. 202, 203, 203об, 204.
[22] ЦАГМ. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 74. Л. 171.
[23] ЦА ФСБ РФ. Дело Р-27416. Л. 137об.
[24] Там же. 76-77.
[25] Там же. Л. 77.
[26] Там же. Л. 177.
[27] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 981. Л.229-238 // Цит. по: История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Верт Н., Мироненко С.В. Отв. сост. Зюзина И.А. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 178. http://statearchive.ru/assets/files/Gulag_1/03.pdf
[28] См.: Кузьмичев И.С. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника. С. 144, 145.
[29] Там же. С. 150.
[30] Ухтомский А. Интуиция совести… C. 197.