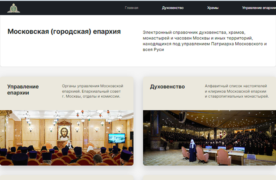Новопреставленного протопресвитера Матфея Стаднюка вспоминают сослужители по Богоявленскому кафедральному собору в Елохове, где батюшка настоятельствовал более 40 лет.
Новопреставленного протопресвитера Матфея Стаднюка вспоминают сослужители по Богоявленскому кафедральному собору в Елохове, где батюшка настоятельствовал более 40 лет.
В Церкви все — для человека
Протоиерей Михаил Райчинец:
— Отец Матфей — добрейшей души человек, труженик на ниве Христовой. Будни — в Патриархии, субботы-воскресенья — в храме. Деятельный, — он мог и людей поднять, организовать, причем именно собственным примером: помню, когда устраивал предпраздничные уборки, мог, еще будучи покрепче, сам и метлу взять, грабли какие-то — только оглянешься, а он уже там что-то подчищает, гребет! При нем работа всегда кипела. Народ с удовольствием подхватывал этот вихрь дел — сад обустраивал, приписанный к собору храм мученика Никиты на Старой Басманной восстанавливал и т.д.
Батюшка был еще той старой закалки — люди раньше умели самоотверженно работать. Родился он в 1925-м году, в простой крестьянской семье в селе Залесцы, что в Тернопольской митрополии на Украине. Это в восьми километрах от Почаевской лавры, которую вроде даже было видно из их окон, потому что лавра стоит на горе. Мать, Анна Демьяновна, с самых малых лет туда носила, а потом водила сыновей — все трое, оставшиеся в живых (четвертый погиб на войне), стали священниками — в первом поколении.
Из их села вообще вышло более 220 священнослужителей. Архидиакон Андрей Мазур тоже был односельчанином отца Матфея. Это при том, что и село-то небольшое — всего-то около тысячи дворов. А вера была такова, что батюшка потом шутил, что у них любая доярка в богослужении подчас лучше разбиралась, чем некоторые из современных иереев.
Хотя и гонения там лютые — в те годы не только за саму веру, но и за приверженность Московскому Патриархату. Приедет батюшка в родное село, а прямо в алтарь во время службы вваливаются местные уполномоченные:
— Вы не должны здесь служить!
— Когда и как мне служить, не ваше дело! — отбреет их.
Так они потом тамошнего батюшку гнобили за это так, что и при похоронах этого настоятеля власти специально раньше намеченного времени заставили провести погребение, — лишь бы «московскому попу» (отец Матфей ехал на проводы) не успеть проститься.
Уже в наши годы под началом отца Матфея священники, выходцы из этого знаменитого села, собрались и построили там новый огромный храм — батюшка этому очень радовался. Сам он с малых лет прислуживал в алтаре старой Покровской церкви их села. Фотография этого храма потом и здесь, в Москве, всегда висела в его кабинете. Божию Матерь, под чьим покровительством начал свое служение, потом всю жизнь подчеркнуто почитал: служил молебны с акафистами перед Ее иконами, параклис.
Детство у батюшки было очень трудным — всего довелось хлебнуть: и голод, и нищета, и притеснения. Потом война началась. Оккупация. От немцев, вспоминал, в Почаевской лавре приходилось прятаться, причем были готовы выйти по древнему — не знаю, может быть, и подземному — ходу, — но он не понадобился: фашисты боялись зайти в монастырь. Такая там святыня величайшая. Батюшка, когда еще был в силах, старался каждый год выбираться на Родину, в Почаев. Там и начинался его путь к служению у престола.
В 1942-м году тогда еще 17-летний Матфей Стаднюк поступил на пастырские курсы при Почаевской лавре. Храмы в войну не отапливались, так он вспоминал: оденешь на себя все, что только можно, — а их еще, хлопцев, и проповедовать ставили — у них такая практика учебная была. Это какое же горение духа надо иметь, чтобы — тебе холодно, а ты мальчишка замерший — проповедь огромному скоплению народа говоришь (потом у батюшки так и осталось это особое внимание к тому, чтобы все внятно, четко с амвона произносилось).
Ужасов, рассказывал, много довелось в военные годы пережить. У них там рядом с селом еврейское гетто устроили. И вот, в какой-то из дней слышат: выстрелы начались — один за другим, один за другим… Вскоре сообщили: «Сегодня всех жителей гетто расстреливают». И выстрелы продолжались-продолжались-продолжались целый день. Это было непереносимо.
Немцы, при внешней их якобы лояльности к Церкви, и православных убивали, особенно тех, кто был за сохранение канонического единства Православной Церкви на Украине с Московским Патриархатом, — видимо, это такой фронт самой озлобленной бесовской войны. Но отец Матфей говорил, что народ всегда знает, что ему надо, настоящих православных не проведешь, и единство разрушено не будет. Про годы Великой Отечественной войны вспоминал, что именно за ратование о единстве был убит обманно вызванный в соседний город — это где-то в районе Кременицы — по пути, в лесу, митрополит Алексий (Громадский). Вскоре после этого убийства тогда еще юному Матфею Стаднюку надо было пешком идти тем лесом 60 километров. Страшно, рассказывал, — они знали, что там в зарослях всюду немцы прячутся, — просто промчался, а как прибыл по назначению, встретился с нужным человеком, что-то ему дали поесть, и он упал — ноги отказывали…
Еще война не закончилась, его, 19-летнего, в марте 1945 года в диакона рукоположили, а через год — во священника. До своего первого храма, рассказывал, пешком тоже около 60 км шел. Служил еще и в окрестных четырех селах — в те храмы тоже в основном пешком по горам добирался. Разве что кто-то где-то на лошадке часть пути подбросит. На Пасху, вспоминал, каждое село по очереди посещал: где заутреню отслужит, в другом храме — Литургию, в третьем можно только Светлую заутреню повторить, куличи освятить.
Каким-то образом отец Матфей смог тогда даже билет на самолет раздобыть! Хотя и жили-то скупо. Распихал, говорил, по карманам сало, брынзу, сливы (раз по карманам, значит, немного-то было!) — и полетел!
Тогда, вспоминал, в духовной школе все были очень дружными: и студенты между собой, и преподаватели, — войну пережили, кто-то и через лагеря прошел. Это все была суровая жизненная школа. Помню, когда я только пришел в Елоховский собор служить, мне батюшка как-то сказал: «Держи язык за зубами». Потом я уже узнал историю одного из их семинарских преподавателей — отца Николая Никольского. Тот однажды просто пропал, а когда через два года вернулся, на вопрос:
— За что посадили?
— За болтовню, — ответил.
Им тогда постоянно надо было быть начеку. Батюшка потом всю жизнь собранность, дисциплину ценил. Порядок во всем. Это еще позволяло и не отвлекаться, не рассеиваться. Сам-то отец Матфей нес великое служение.
И нас наставлял: «Спешите делать добро». Часто, кстати, панихиды, литии посылал служить на Введенское немецкое кладбище в Лефортово (он там до Елоховского собора 25 лет был настоятелем храма апостолов Петра и Павла): «На могилах митрополита Трифона (Туркестанова), у доктора Гааза обязательно, — говорил, — панихиду или хотя бы литию отслужите».
После уже, когда советская власть ослабла, отец Матфей сестричество при Елоховском соборе организовал. Его всегда, даже при всех его высоких постах в Патриархии, куда его взяли сразу после семинарии-академии, отличала особая внимательность к людям. Кто бы к нему ни обратился:
— Вы подождите, потерпите… — как бы он ни был занят, попросит подождать, потом обязательно выйдет, выслушает, ответит-наставит.
Все спокойно, уверенно, убежденно. Все по заповеди, по любви.
Или когда мы, священники, ему какие-то вопросы передавали. Вот, например, люди часто спрашивают, как имена в записочках писать: Эдуард, Виктория и т.д. «Как говорят, так и пишите, записывайте в синодики и молитесь. Главное, чтобы крещеные были», — батюшка отвечал.
Он так всегда все дела в Церкви устраивал, чтобы все здесь было — для человека. К нам-то, служащим, работникам храма, он мог быть и строг, но все должно было быть на благо, для спасения приходящих.
Раньше-то он где-то и тайно людей по домам крестил, старался обратить всех, кто готов был услышать о Боге, а тут человек сам в храм пришел, — все должно быть к нему обращено!
«Плохих людей не встречал», — говорил нам, уже будучи в преклонных годах, за 90, отец Матфей. Вот это слова праведника!
А любовь-то — она бдительна, или Что делать, чтобы не случилось катастрофы
Протодиакон Евгений Трофимов, клирик Богоявленского собора в Елохове:
— Отец Матфей — легенда нашего времени. Все говорят, батюшка был непростой. Был у него дар от Бога. Я просто избегаю таких громких слов, как прозорливость, но что-то Господь ему открывал. Не то чтобы он обличал что-то сокровенное, — нет, но он как-то чувствовал людей, каким-то внутренним ведением постигал, что происходит, что дальше будет…
Я знаю батюшку уже почти 40 лет. Это человек, который полностью посвятил себя служению Церкви. Нес послушание секретаря при Святейшем Пимене, а потом и при Святейшем Алексии II. А времена тогда были очень сложные. Батюшка был своего рода духовным политиком, дипломатом. Всегда мог взять удар на себя, умиротворить — даже тех, кто предпринимал какие-то яростные нападки. Многих он, кстати, и из высших эшелонов тогда еще советской власти тайно покрестил. Сколько потом таких признавалось, что нежданно-негаданно для себя обратились именно благодаря встрече с отцом Матфеем.
А какой он молитвенник! Все успевал, и еще и молился! А то, бывает, жалуются: нет времени на молитву… Сказано про праведника: «Вся, елика аще творит, успеет» (Пс. 1:3). Батюшка всех наставлял: «Ваша обязанность почаще бывать в храме». От сослужителей требовал особой внимательности за богослужением: «Повнимательнее».
Сами-то мы отца Матфея старались никогда не отвлекать — все текущие вопросы решали через отца ключаря. Просто знали его нагрузку. Но вот что удивительно, помню, еще с 1980-х годов, при всей его занятости и ответственных патриархийных постах, отец Матфей, сам служащий по воскресеньям обычно на поздней Литургии, всегда приезжал к ранней! И всю первую службу молился, вынимая частички из просфор — много-много.
Если же отец Матфей был в алтаре и «не занят», я, бывало, грешным делом даже подумывал: «Лучше бы он у престола стоял…» — ибо занят он тогда был нами… Чтобы поменьше присаживались в алтаре, никаких разговоров, это всегдашнее его: «Повнимательнее». Духовному-то человеку этой поднастройки не надо…
Когда сам служил — весь уходил в службу. Горел молитовкой. Очень любил служить. Желал, чтобы и мы все были также отданы богослужению. Но мы-то лодыри. А он — человек храма.
В нем всегда была такая, не внешне напыщенная, а внутренняя стать: чувствовалось сразу, что — настоятель, протопресвитер. Отец. Хозяин.
Нас-то как ни натаскивай, все мы мимо этого высокого церковного тона, а он умел его держать, внутренний слух у него был на это преображенное состояние бытия настроен.
Помню, прихожу к нему:
— Батюшка, меня тут приглашают на повышение квалификации. Это же мне два месяца придется учиться. Как мне, соглашаться?
— Твое повышение квалификации — здесь, в храме. В соборе, — ответил он (отец Евгений, рассказывая, передает малороссийское оканье и убеждающую нисходящую интонацию отца Матфея — прим. О.О.).
Все. Больше мы к этому вопросу не возвращались.
Он, кстати, очень ревностно всегда относился к Елоховскому собору. Когда кто-то из прихожан какие-то у него билетики выпрашивал на службу в Кремль:
— Надо в собор ходить, в собор, — отвечал батюшка.
Почему-то батюшка ревновал, когда прихожане ходили в другие храмы. У него было такое твердое убеждение: куда тебя Господь привел, там и молись.
До последнего времени батюшка постоянно приезжал в храм — вот именно в тот, в который был Священноначалием назначен. Он уже был на колясочке, правая рука у него, я так понимаю, была полупарализована, он как-то больше левую руку тебе даст, держит твою руку в своей, пожимает. Уже ничего не говорил. Но такое от него духовное тепло исходило! Это подвижник XX-XXI веков.
Батюшка был очень милостивый, добродушный к внешним, а к себе, наверно, очень требователен, но с годами как будто этот тонус стал его второй натурой, а вот нас, разгильдяев-сослужителей, батюшка гонял и строил! Причем мы-то ему еще на выходных под руку попадались, — а вот тем, кто в Патриархии, представляю, каково было… Отец Сергий Суздальцев про это потом очень смешно рассказывал: только, мол, отдохнуть вознамеришься, — опять указ! Едва выдохнешь, отец Матфей трезвонит: «Собирайся!» — ехать куда-то! Вот бы лишь присесть — «Рота, подъе-е-е-м!»
Однажды в Великую субботу батюшка мне говорит:
— Отец Евгений, в час идем освящать куличи.
Я бросился искать кропило, требник, корзинку… Мечусь, ничего мне не попадается, другие батюшки все уже разобрали. Прихожу, а отец Матфей там уже с какими-то женщинами все освящает.
— Батюшка, — говорю, — только корзинку вот и нашел…
— Видел я, — говорит, — бестолковых, но такого бестолкового впервые встречаю.
Мог так, с юмором, осадить свою «солдатню». Стою я там с этой пустой корзинкой… Еще и дождик стал накрапывать, так что все и разбежались.
Но батюшка всегда вразумлял по-доброму. Никогда не кричал. Замечания в основном всегда уже после делал.
Помню, я как-то вычитал где-то, что диакон не должен громогласить, надо как-то без надрыва все произносить. Я взял себе это на вооружение, намеренно себя приглушаю. Батюшка слушал-слушал, ничего не сказал. Потом, во время шестопсалмия, подзывает:
— Отец Евгений, что ж ты там — про себя, что ли, служишь? Что ж ты так тихо ектенью говорил?
— Батюшка, я вот вычитал, что надо, чтобы диакон не кричал, а спокойно призывал к молитве…
— Но бабки-то глухие стоят!
— Понял.
Батюшка очень мудрый. Он никогда, кстати, сразу не отвечал на вопросы. Что-то у него спросишь, а он:
— Как-как? — и начинал думать.
Весь внезапно уходил в себя. Не поверхностно ко всему относился. Всегда был очень внимателен к прихожанам, да и просто к людям, обращавшимся к нему. Мы-то, бывало: «Да гнать его надо», — думаем, посмотрев на иного. А батюшка — нет, смотришь, отвел в сторонку очередного просителя: «Помочь надо». У нас, помню, владыка Питирим (Нечаев) служил, а потом, как на трапезу шли, заметил батюшкины раздачи.
— Отец Матфей? — так, шутя, выразительно на него глянув, поставил ему на вид.
— Каюсь, владыка, грешен, — тут же отозвался батюшка.
Он ведь сам из тех, кто много перестрадал. Помню я то поколение священников, — их уже практически не осталось. Они, может, и не сильно образованные были, но преданные Богу. Духоносцы. Такие и могут утешить, примирить всех — «стяжали дух мирен». Дух Божий действовал через них.
Мы же все со своими характерами. Надо, зная недостатки каждого, покрывая их, лавировать — не давить на больную мозоль, а наоборот, как-то сглаживать острые углы. Отец Матфей это умел — мог как-то всех утихомирить.
Как-то, помню, надо начинать панихиду по А.С. Пушкину. Отец Матфей нас всех, диаконов, собрал. А отец Николай Воробьев — был у нас тоже такой взыскательный батюшка, — в алтаре еще находился, и у него там уйма записок. Вышел, идет к отцу настоятелю, весь такой разгоряченный:
— Вы всех диаконов забрали! Хоть бы кого-то, кто помог бы простые записки почитать…
А отец Матфей ему просто так возьми да и скажи:
— Отец Николай, не кипятись.
И все! Вот как можно так, одной фразой, все бушующее негодование снять?
Божий человек. Молитвенник. Дипломат настоящий, — в том смысле еще, что он не внешне это как-то все решал, а внутренне урегулировать мог.
Бывало, просто посмотрит, но так, что все становилось ясно и без всяких слов. Как-то умел еще и наши немощи покрывать. Вразумить — вразумит, а и не так, чтобы это было убийственно. Пастырь добрый. А любовь-то — она бдительна.
Меня он всегда ругал. Помню, был день Ангела у одного из наших старших священников — отца Николая Воробьева, а я то ли поленился тогда прийти… И вот батюшка меня подзывает потом:
— Отец Евгений, что ж ты не пришел, не почтил отца Николая?
А я возьми да и ляпни:
— Батюшка, коплю силы для дальнейшего служения…
Он так махнул рукой, что у меня до сих пор этот жест перед глазами.
Со мной вообще одни недоразумения были. А батюшка всегда с юмором относился. Но и с ним можно было пошутить, посмеяться. Это и есть один из показателей здоровых отношений столь высокопоставленных, почитаемых пастырей и их подчиненных. Батюшка, бывало, ко мне подойдет, да забудет: зачем? Вместе рассмеемся.
Сейчас таких старцев — любвеобильных, духовных, мудрых — осталось очень мало: отцы Кирилл (Павлов), Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Наум (Байбородин) ушли… Батюшка Илий остался. А кто еще?..
Помню, с отцом Матфеем идем по кладбищу — там такая узкая дорожка, — и он со всеми, кто движется нам навстречу, здоровается.
— Отец Евгений, надо вот так, — говорит, — со всеми здороваться. Просто поприветствовать человека.
Для меня это была новость. Так-то, просто на улице, не будешь со всеми здороваться, а в каких-то немноголюдных местах, тем более на кладбище, — надо, оказывается, и с теми, с кем незнаком, здороваться.
У него такая была фраза: «Надо радеть, чтобы наши традиции жили в сердцах, иначе, если мы их потеряем, будет катастрофа».
Благословил создать воскресную школу при Елоховском соборе. Меня там тоже преподавать назначил. Потом все спрашивал:
— Отец Евгений, как дети? — во все вникал.
Детвора его, помню, смотришь — очень любит. Песни ему какие-то все пели. Вырастают, хранят в сердце его пример.
Вечная память.
Главный миссионерский аргумент и раскрытие духа через улыбку
Протоиерей Борис Обрембальский:
— Когда батюшка как-то в Патриархии предложил мне прийти в Елоховский послужить, я внутренне весь собрался: все-таки кафедральный собор. О чем я только не передумал, когда шел туда. Это был март 1994 года, — тогда еще все-таки была несколько другая в обществе обстановка, еще было много оглядок на прошлое: «как бы чего не вышло» и т.д. Обычно, принимая кого-то в клир, настоятель обстоятельно расспрашивает про образование и прочее. А тут батюшка меня совершенно ошеломил первым вопросом:
— А вы умеете громко служить?
Дело в том, что раньше, когда открытых храмов было мало, народу, особенно на праздники, собиралось столько, что распахивали окна и двери, техника еще не позволяла усиливать возгласы и молитвы, и тогда действительно требовались голосистые иереи, чтобы весь народ слышал и мог вникать.
У отца Матфея было такое, очень ярко выраженное, стремление точно угодить людям: вот мы — слуги в Доме Божием, а это чада к Отцу приходят.
Иногда в чем-то, может, и дерзко, помню, попытаешься его урезонить:
— Батюшка, ну, это же долго будет…
— Но люди же пришли, они хотят…
Вот такое стремление, как у наших великих преподобных: чтобы никто тощ и неутешен не ушел.
Батюшка первым приходил всегда в храм. Как бы ты ни спозаранился, он все равно уже был в алтаре! Наставлял: «Куда бы тебе не надо было прийти — на учебу, на работу, — приди заранее. Тем более — если ты пришел в алтарь, Богу предстоять. Это самое важное занятие на земле. Хотя бы минут за 20, за полчаса надо уже быть на месте. Сосредоточьтесь, придите в себя, со всеми поздоровайтесь, взгляните на иконы, помолитесь. И если вы так начнете службу, то будете уже более внимательны, и служба проникнет в душу. А то вы вбегаете за две минуты, служба начинается, вы пока отдышались, пока абстрагировались от того, что вам там по пути мешало, так у вас полслужбы вне службы и прошло… Только настроился — служба кончилась». Это касается и прихода на службу прихожан.
Сам, приходя заранее, мог спросить у диаконов:
— Какое сегодня читается Евангелие?
Допустим:
— 7-е воскресное.
Подойдет, откроет Евангелие, сам прочтет, закладку аккуратно поправит. Не потому, что не доверял, а это его настраивало на размеренный, осознанный ход службы.
Во время богослужения всегда и во всем был очень аккуратен. Никогда не торопился. Да, он мог пройти по алтарю быстро, но неспешно. У него были очень четкие и выверенные движения, все могло происходить в темпе, — особенно когда это требовалось, — но без суеты. С благоговением. Взвешенно, осмысленно.
После богослужения: молодые священники часто отслужили и — все! — быстро-быстро: кому еще в Сергиев Посад ехать, кому на другой конец Москвы — все торопятся, разбегаются. Отец Матфей никогда не спешил уйти из храма. Из алтаря уходил последним.
Его у солеи люди всегда ждали. Он им радовался, как ребенок! И они тоже — пока его до дежурки доведут, все как-то веселели.
Обычно человек с возрастом становится более снисходителен, добродушен, а про отца Матфея и те, кто его и по полвека знает, говорят, что батюшка всегда был как ангел: мирен, с улыбкой. Это как в патериках пишут про святых: ничего даже спрашивать не надо, просто достаточно посмотреть на такого человека, — это про отца Матфея!
Кто бы откуда ни приехал, в каком бы кто ни был состоянии, но когда его увидят, расплываются в улыбке. Знаете, это такая улыбка, когда ты уже не знаешь: куда тебе еще там улыбнуться, дальше-дальше-дальше хочется — улыбка как раскрытие духа!
— Какой батюшка хороший! — только и приходилось слышать отовсюду.
Даже у американцев, которые и спустя десятилетия помнили его служение в Нью-Йорке, их дежурные улыбки вдруг становились какими-то теплыми. В общении с иностранцами отец Матфей и в свои преклонные годы запросто на английский переходил. Многих, особенно людей нецерковных, это потрясало, располагало. Так он мог заронить в душу какое-то зерно веры.
У всех при виде отца Матфея была радость. А положительная эмоция, известно, — это главный миссионерский аргумент. Многие люди потом признавались, что воцерковились благодаря встрече с отцом Матфеем. Он всегда заботился о людях.
Помню, у нас служил один архиерей. Вышел на проповедь. И уже минут 40 прошло, а владыка все наставляет паству. Про праздник уже рассказал, и новый заход:
— А мы вот еще с вами сегодня читали Евангелие о том-то…
Уже и это выслушали.
— А еще, — говорит, — Церковь празднует сегодня память такого-то святого…
У настоятелей разные в таких случаях тактики бывают: под отцом Иоанном (Крестьянкиным), например, начинали из алтаря коврик поддергивать… Но тут, я чувствую, отцу Матфею, у которого было очень хорошо с чувством юмора, не до смеха. И дело не в том, что это был архиерей, хотя отец Матфей, безусловно, почитал церковную иерархию, как, собственно, и многие владыки, особенно моложе его, относились к нему с большим почтением. Просто в одном из приделов уже должно было начаться отпевание. Близкие усопшего ждали…
— Отец Борис, — распорядился батюшка, — идите отпевайте. Владыка будет до вечера говорить проповедь.
Он всегда очень трепетно относился к любому человеку — «захожанин» он, «прохожанин», — для него не было этих ярлыков: каждый человек — чадо Божие.
А вот со священниками-сослужителями батюшка бывал Воанергес (сыны громовы, см. Мк. 3:17). Он не был злым. Был добрым. Но строгим. По отношению к своим. И очень требовательным. Я все, помню, по молодости лет и глупости, свойственной этому возрасту, недоумевал и хорохорился: «Вроде же он сам меня пригласил к себе на приход… Что же происходит?!» В том, что он видит тебя насквозь, я не раз убеждался. Более того, он точно знал, я в этом на 100% уверен, кто каким пастырем станет в перспективе. И — строгал, строгал, строгал. И там, где больнее, точно больше тебя как раз и обтесывал. Мы-то, многие, по молодости лет заносчивы, не по делам амбициозны бываем. А он все капает тебе, капает. Причем ругал он всегда не сразу. Память у него была феноменальная. Могло пройти месяца три, а он тебе со всеми подробностями, видно, как-то ощутив, что сейчас ты уже сможешь усвоить, осознать, начинает полностью живописать картину: «А помнишь?!…» — тебя просто до холодного пота пробирало. Причем, когда ты ранее это делал, ты просто даже не предполагал, что что-то не так… Те, кто слушал исповеди старцев, отца Кирилла (Павлова), например, и других — знают, что они каются в том, что мы даже за грехи не считаем. Помню, вызывают тебя к отцу Матфею, идешь спокойно, вроде ничего такого не напортачил, заходишь и… началось! Это была очень глубокая духовническая работа, где приходская практика — просто предлог. Его требовательность уходила корнями в сферу духа: дело было вовсе не во внешнем — даже пусть и церковном — благочинии, благолепии и т.д.
Вообще, поражало, что он, будучи на высоких должностях при Предстоятелях — сначала Святейшем Пимене, потом Святейшем Алексии II, — нам еще, молодым священникам, и время свое, и внимание уделяет! Причем старался именно всех нас собрать на тезоименитство, например, или какую-то дату собрата. Сам свои дни рождения батюшка долго не отмечал, просто служил в этот день потихоньку в Никольском приделе, — и мы даже не догадывались, что у настоятеля в этот тихий день — день рождения. А потом, уже когда батюшка становился все старше, и было неизвестно, не окажется ли этот день рождения последним, — стал снисходить к нам, собирал всех за столом. Всегда рассказывал какие-то поучительные истории, назидал, но никогда не выставлял открытых ему наших немощей напоказ, даже косвенно их как бы обличая. Нет, с ним, если вы не наедине, всегда было легко и спокойно. Он умел видеть в людях все хорошее, и именно это лучшее в человеке под его наблюдением как-то начинало точно актуализироваться, расцветать, вытесняя негатив. Ты был рядом с ним, как засвеченная пленка — в общем-то фотолетопись нашей жизни состоит из грехов… А он вот так культивировал, будто райский сад, своих ближних, паству, сослужителей. Все и все как-то преображались. Говорят, и в будущем веке у пастырей будут их, — кто сподобится быть рядом, — духовные семьи вокруг.
Но у него и все ближайшие сродники — близки по духу. Братья — священники. А как батюшка любил своих родителей! Родители уже много десятилетий как почили, а он все просил даже нас, молодых пастырей, молиться о них, поминать рабов Божиих Савву и Анну. У самого батюшки с его матушкой Феодосией не было детей, — так он очень любил малышню и тех, кто постарше, подростков на приходе. Мои дети тоже отца Матфея постоянно вспоминают. А вспомнить его — это уже свет, радость, мир на душе.
Вечная память.
Подготовила Ольга Орлова