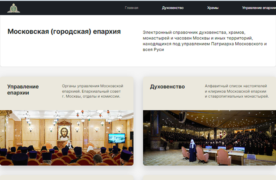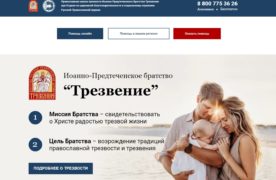Интервью с наместником Данилова ставропигиального мужского монастыря епископом Солнечногорским Алексием опубликовано в последнем номере журнала «Монастырский вестник», который посвящен старейшей московской обители. Данилов был первым монастырем, основанным святым князем Даниилом Александровичем в Московском княжестве в ХIII веке, а в 1983 году стал первой столичной обителью, возвращенной Русской Православной Церкви после периода богоборчества.
Интервью с наместником Данилова ставропигиального мужского монастыря епископом Солнечногорским Алексием опубликовано в последнем номере журнала «Монастырский вестник», который посвящен старейшей московской обители. Данилов был первым монастырем, основанным святым князем Даниилом Александровичем в Московском княжестве в ХIII веке, а в 1983 году стал первой столичной обителью, возвращенной Русской Православной Церкви после периода богоборчества.
Епископ Солнечногорский Алексий возглавляет Данилов ставропигиальный мужской монастырь с 1992 года. Монашеский сан принял в 1971 году, будучи насельником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Став священником, исполнял духовническое послушание в обители Преподобного Сергия. Духовным отцом будущего епископа был известный всему православному миру лаврский духовник, архимандрит Кирилл (Павлов). Сегодня владыка Алексий окормляет игуменов, игумений и насельников многих монастырей Русской Православной Церкви. За духовным советом к нему обращаются люди, кажется, со всех концов земного шара. Разговор с наместником Даниловой обители — о его монашеском пути и становлении первой столичной обители, основанной святым благоверным князем Даниилом Московским в XIII веке.
— Владыка, благословите! Когда в 1969 году Вы пришли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, могли ли Вы представить себя наместником большого столичного монастыря? И второй вопрос: почему Вы решили принять монашеский постриг?
— Представлял ли я себя наместником столичного монастыря? Нет, конечно… Помню, как меня вызвали к Святейшему Патриарху Алексию II по этому поводу. В то время я был насельником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и в один из своих приездов в Лавру на Светлой седмице Святейший пригласил меня в Патриаршие покои на беседу. В это время там находились владыка Арсений (ныне митрополит Липецкий и Задонский) и архимандрит Кирилл (Павлов), лаврский духовник и мой батюшка. Речь шла о Даниловом монастыре. Мне предложили стать наместником обители. Я пытался отказываться, страшно было, конечно, но Святейший Патриарх Алексий сказал тогда, что наместниками не рождаются, а становятся. Я понимал, что это большая ответственность и со страхом и трепетом приступил к исполнению послушания.
В Даниловом я бывал и прежде своего назначения. В первые годы возрождения монастыря туда регулярно посылали братию Троице-Сергиевой лавры. Вот и меня благословили провести в Даниловом три летних месяца. Тогда очень важно было, чтобы в обители началась молитва, и монашествующие действительно вносили посильный вклад в духовное возрождение монастыря. Мы участвовали в богослужениях, исповедовали народ… Однако Данилов монастырь в то время напоминал скорее строительную площадку. Ямы, котлованы, всюду стройка, люди, в том числе и пожилые, – что-то переносят, убирают… Помню, что когда это послушание закончилось, я был очень рад вернуться в Лавру. Но вот наступил 1992 год, и я попал, можно сказать, как кур в ощип. Святейший Патриарх назначил меня наместником, и пришлось принять волю Божию – сотворить послушание, а затем жить и расти вместе с монастырем.
Отвечая на вопросы о причинах выбора монашеского пути, обычно приходится объяснять, что ничего трагического в моей жизни, перед тем как я пришел в монастырь, не произошло. Никто не умер. Господь позвал, и сердце откликнулось на Его призыв. Почему человек приходит в Церковь? Почему выбирает иноческий путь? Для него это неведомо. Церковная дверь тяжелая, открывается с трудом… Хорошо, когда есть кому подсказать, что и как нужно делать. Среди моих родственников были церковные люди, которые помогли, когда у меня появился интерес к вере. Они с любовью охотно рассказывали мне обо всем, что знали сами. Моя тетя, впоследствии монахиня Александра, в свое время дала мне почитать Журнал Московской Патриархии, где была статья о митрополите Симферопольском и Крымском Луке. Пример жизни и служения Богу и людям, глубина и твердость веры святителя Луки меня очень вдохновили тогда.
— Что дала Вам Лавра в Вашем становлении как монаха?
— Не только я, но и вообще большая часть первых насельников нашего монастыря воспитывались в Лавре. Лучшее, что мы заимствовали, это примеры жизни братии, многие из которых стали монахами в послевоенные годы. Становясь насельниками обители преподобного Сергия, мы имели перед глазами примеры духовности, богослужений, а когда принимали священный сан, то и общения с паствой. Всё самое хорошее из того, что сегодня есть у нас, было приобретено в Лавре. Я всегда говорю о том, что, живя в общежительном монастыре, мы почерпнули всё необходимое для монашеской жизни – устои, духовность, традицию. Нам было у кого заимствовать всё это. А главное – это близость к святыне – игумену земли Русской преподобному Сергию, его отклик на наши молитвы. Очень много значило для нас и духовное окормление незабвенного батюшки архимандрита Кирилла (Павлова). Батюшка был сама любовь. Когда он благословлял, все сомнения уходили прочь. О нем говорили, что он был для духовных чад не отцом, а матерью.
— В Даниловом монастыре довольно много насельников. Как Вы собирали братию?
— Это Господь собрал братию, я не собирал ее. Когда я стал наместником, в монастыре подвизались, если я правильно помню, 35 человек. Потом еще приходили люди. Но и уходили тоже, потому что в те годы монахов из Данилова направляли в другие монастыри. В начале 90‑х годов прошлого столетия о том, что открылся первый монастырь, стало известно всей России. Даже в удаленных от центральной части страны храмах стояли кружки для сбора пожертвований на Данилову обитель. Люди узнавали об этом событии и приходили посмотреть на монастырь. Кто-то, конечно, знал о святом благоверном Данииле Московском и его отце – Александре Невском, о прежней даниловской братии, теперешних новомучениках, а кто-то открывал для себя новую святыню. В монастырь тогда пришли монах Михаил (Карелин), Иван Сергеевич Сарычев, позже архимандрит Даниил, оба они подвизались в Даниловой обители до ее закрытия. И это было значимо для нас, потому что с их помощью возродилась традиция монашеской жизни, которую знали эти люди.
В первые годы жизни монастыря пополнение братии в основном шло за счет Троице-Сергиевой лавры. Даниловское братство складывалось постепенно. Кто-то уже был пострижен и рукоположен, кто-то принимал постриг у нас в монастыре. По мере того, как монастырь возрождался, к нам приходили разные люди – с разным уровнем образования, разного социального положения, иногда, как мы говорим, с отрицательным опытом жизни в миру… Кого-то отправляли на подворье – в Рязанскую область или в Подмосковье. Там трудники и послушники получали представление о монастырской жизни, а мы – возможность увидеть, насколько серьезными являются их намерения быть монахами.
— Какие этапы возрождения обители Вы могли бы выделить в его новейшей истории?
— Основа монастырской жизни, без сомнения, была заложена архимандритом Евлогием (Смирновым), митрополитом Владимирским и Суздальским, † 2020. – прим. ред.). Он управлял монастырем с 1983 по 1986 год, но благодаря его трудам мы пришли не на пустое место, не в административный центр, коим планировала видеть монастырь советская власть, а в монашескую обитель. Владыка принял в монастырь и первых насельников. Причем иногда ему приходилось тех, кто хотел поступить в число братии, оформлять как специалистов, чья профессия требовалась для строительства духовного центра. В монастыре зазвучала молитва, были восстановлены храмы и кельи, началась монашеская жизнь.
Значимым для монастыря событием стало возвращение в обитель частичек мощей нашего Небесного покровителя – святого благоверного князя Даниила Московского. 17 марта 1995 года, в день престольного праздника, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал нам чудом сохранившуюся святыню. Ковчежец с частичкой мощей сохранил в советские годы известный лингвист Игорь Евгеньевич Аничков. В 1978 году, чувствуя приближение смерти, он передал его академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву с наказом сохранить и в благоприятное время вернуть Церкви. Дмитрий Сергеевич, в свою очередь, отдал святыню на хранение протоиерею Иоанну Мейендорфу, который увез ковчежец в Америку, пообещав возвратить святыню в Россию, когда изменится положение Русской Православной Церкви. Отец Иоанн сдержал свое обещание. И еще одну частичку мощей передали схимонаху Михаилу (Карелину; † 2003) духовные чада даниловского духовника – архимандрита Серафима (Климкова; † 1970).
В 2008 году в Данилову обитель был возвращен исторический ансамбль колоколов, который в 30‑е годы ХХ столетия американский промышленник Чарльз Крейн выкупил у советского правительства по цене металлолома и подарил Гарвардскому университету. После длительных переговоров колокола вернулись в монастырь, и голос Данилова снова зазвучал в столице, как в прежние времена, напоминая москвичам о необходимости быть на связи с Небом.
В 2023 году мы торжественно отпраздновали 40‑летие возрождения первого на Москве и первого возвращенного Русской Православной Церкви Данилова монастыря. Сегодня Данилов монастырь известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Братия молится, занимается просветительской и социальной деятельностью, успешно работает с молодежью, окормляет воинов в госпиталях.
— Владыка, каково значение устава для монашества?
— Устав — это распорядок жизни, я бы сказал, канва нашего спасения. Ведь монашеский устав включает в себя и молитвенное правило, и богослужения, и послушнические труды, и быт, и многое другое. И все это вместе формирует послушника, созидает ум и душу монаха. Монах — это не только то, как выглядит человек: четки, черная одежда, но и то, в первую очередь, что он есть, те труды, которые он предпринимает на благо Церкви, обители, братий и своей собственной души.
Неотъемлемой частью жизни инока является борьба со страстями. Часто он вынужден поступать против собственного желания. Но если человек хочет попасть на Небо, а именно это желание должно быть определяющим, он приходит в монастырь. И обитель помогает ему воспитывать себя для Царствия Небесного, чтобы на Страшном Суде инок мог сказать: «Господи, теперь Ты видишь, кто я и что я, и я готов дать Тебе ответ».
— Бытует мнение, что если инок добросовестно исполняет то, что должен исполнять в соответствии с уставом, со временем к нему приходит и желание жить именно так, как устав предписывает. Другими словами, исполнять устав становится легко. Так ли это?
— Конечно. Так и должно быть. Ведь очень важно, с чем мы придем ко Господу. Наше сердце, наша душа – это сосуд, который мы должны наполнить Божественной благодатью, а монашеский устав – орудие труда, с помощью которого воспитывается инок. Благодаря этому орудию и происходит наполнение сосуда. Научиться пользоваться орудием трудно, конечно, но не невозможно. Нам все дано для спасения: таинства, в которых мы участвуем, – Крещение, Евхаристия, Покаяние, – труды святых отцов, оставивших примеры монашеского подвига. А монастырский устав позволяет воплощать в жизнь всё то, что дает Господь желающим наследовать жизнь вечную.
— Как Вы думаете, благодаря чему сохраняется и укрепляется братство обители святого князя Даниила?
— Наверное, благодаря тому, что братия любят Христа и Церковь. Верующий человек знает Бога и живет по законам Церкви. Церковь – это институт, учрежденный Христом. Здесь мы приобретаем духовное богатство, благодаря которому сами получаем возможность спастись и которое призваны раздавать миру. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного(Мф. 5:16). Свет людям – монахи, а свет монахам Ангелы.
— Владыка, передаю Вам вопрос от монашествующих: что для Вас означает игуменский жезл?
— Игуменский жезл — это символ власти, которую священноначалие получает от Бога. Наместник, настоятель, игумен облекается властью и наделяется полномочиями, а вместе с ними и ответственностью за своих пасомых. Он отвечает за них перед Господом, а, значит, обязан воспитывать своих чад. Помните изображение Спасителя с ягненком на плечах? Мне кажется, этот образ очень хорошо подходит для отражения сути игуменского служения. В то же время игуменский жезл символизирует благодать Господню, опираясь на которую игумен совершает свое служение.
— Скажите, а Вы доступны для братии Данилова монастыря?
— Когда я не ем и не сплю, а этому я обычно посвящаю много времени (смеется), братия ко мне обращаются, и я стараюсь быть им полезным. Хотя у братии может быть другое мнение, надо у них спросить, тогда мне надо будет исправиться.
— Трудно ли епископу оставаться монахом?
— Я думаю, что епископ — монах особенный. Он должен быть мудрым, он должен быть подвижником, особенно это касается преосвященных, которые поставлены управлять епархиями и митрополиями. Ведь это части Церкви, за которые они несут ответственность. Но, я думаю, что на этом послушании легче спастись, потому что «больший слой земли вспахивается». Живя в монастыре, быть монахом несложно, здесь есть определенный порядок, который помогает в монашеском делании. Что касается меня, то я архиерей «маленький», викарный. Стараюсь по мере сил добросовестно совершать свое служение.
— Сейчас на территории Даниловой обители находится Патриархия. Как говорил в своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл, Данилов монастырь стал адресом Русской Православной Церкви. Изменилось ли в связи с этим обстоятельством что-то в жизни братии?
Это символично, и это нас ко многому обязывает. Из уст Святейшего Патриарха я слышал, что он чувствует молитвы братии и духовную атмосферу монастыря. А мы, в свою очередь, чувствуем, что должны, живя в обители и называясь монахами, соответствовать своему призванию. Патриарх Кирилл — священноархимандрит нашего монастыря. Он не просто начальник, он — отец, и в его лице мы видим пример самоотверженного служения Богу и людям. На собраниях игуменов и игумений в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, когда Святейший говорит с нами о монашестве, его слова никого не оставляют равнодушными. С любовью и глубоким уважением Предстоятель ободряет нас своим словом, вдохновляет на подвиг духовной жизни и благословляет никогда не жалеть себя. И мы с благодарностью стремимся следовать примеру нашего Патриарха.
— Владыка, как Вы думаете, есть ли особенности у русского монашества?
— Несомненно, есть свои национальные особенности у каждого народа. Мне кажется, что русский инок способен несколько шире, что ли, смотреть на вещи. Более открыт для народа. Не мне судить, конечно, но мы поездили по разным монастырям, видели разных монахов, бывали и на Афоне. Слава Богу, всюду есть подвижники, везде достаточно примеров для подражания. Но русское монашество мне особо дорого, потому что оно облечено в форму, которая отзывается теплотой в сердце. У почившего теперь уже насельника Даниловой обители, иеродиакона Романа (Тамберга) есть песня «Русь называют святой. Поле, да лес, да река…». Описанная в поэтической форме, эта картина очень близка русскому человеку. Русский инок, как и вообще русский человек, способен проникаться красотой Божиего мира, чувствовать благодать Животворящего Духа, разлитую в воздухе, любит свою Родину, молится о ней. Нередко об этой песне отца Романа говорят, что она народная. И она действительно теперь уже стала народной, в том смысле, что ее все знают, везде в России ее поют. Я бывал в тех местах, где она родилась, хорошо их представляю себе. Там в лесу есть озеро, над ним колокольня, рядом изба в два оконца. И всё это такое близкое, родное сердцу… Кажется, что и сам образ русского инока связан с каким-то очень красивым уединенным местом в лесу или на холме. Подвижники часто выбирали подобные места. Может быть, красота Божиего мира тоже вдохновляла их на пути спасения, подпитывала душу, помогала жить, быть?.. Душа любуется и поет, прославляя своего Творца.
Данилов монастырь тоже ведь когда-то был основан на самой южной границе Московского княжества, рядом были лес и река. Это теперь мы находимся, можно сказать, в центре столицы.
Да и не только мы. Когда едешь по Москве, отмечаешь для себя, что в Москве теперь много монастырей – и мужских, и женских. Все мы, их насельники, общаемся друг с другом, и, как я понимаю, наш образ жизни и образ мышления являют собой образ русской духовности, образ православной Руси. Дух, который созидается в монастырях, возвещается миру. Мы сейчас не говорим о том, хорошие мы или плохие монахи, но мы знаем, каким должно быть монашество, потому что читаем Евангелие и творения святых отцов, имеем перед собой пример новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру в нашем Отечестве в ХХ веке. Всё это и есть наша церковная жизнь. Все мы призваны возвещать миру истинность нашей веры. И это очень значимо для нас. Как говорит преподобный Иустин (Попович), монах есть исполненное Евангелие.
Беседовала Екатерина Орлова
Фотографии предоставлены фототекой
Данилова монастыря