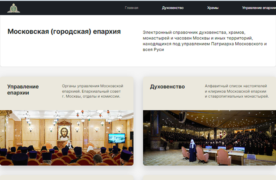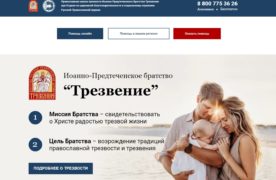Как и кем совершалась Литургия в годы Великой Отечественной войны, если страна после революции 1917 года взяла курс на истребление духовенства? Откуда брали церковную утварь, ранее изъятую в пользу голодающих Поволжья? О церковной жизни в те страшные годы рассказал протоиерей Алексий Марченко, доктор церковной истории, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, и.о. настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, в Замоскворечье.
— Отец Алексий, Вы являетесь известным специалистом в области церковно-государственных отношений в СССР в ХХ веке. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы обсудить с Вами важную тему состояния богослужебной жизни в этот драматический период истории Русской Церкви.
— Действительно, это очень важная и чрезвычайно интересная тема. Как Вы знаете, богослужебная деятельность является важнейшим аспектом церковной истории как богословской науки. В экстремальных условиях, связанных с антирелигиозными гонениями и военными действиями в 30-40-е годы, она становится важнейшим показателем стойкости и жизнеспособности Церкви как благодатного Богочеловеческого организма, ведомого Самим Господом Иисусом Христом и Святым Духом. Развитие и качество литургической жизни в период Великой Отечественной войны лучше всего отражает суть общего религиозного подъема, церковного возрождения, которое переживал наш православный народ в 1941–1945 годах.
— Вы говорите о религиозном подъеме народа в период войны. Но ведь это был уже не тот народ, который когда-то жил в Российской империи. Это были советские люди, многие из которых родились и выросли при советской власти, воспитывались в советских школах, где не было места религии, а наоборот, прививалось безбожие, негативное отношение к Церкви. Даже люди старшего поколения, рожденные до революции, с начала 20-х годов подвергались воздействию массированной антирелигиозной пропаганды. С чем связан этот удивительный феномен?
— Действительно, с момента своего появления советское государство целенаправленно вело борьбу с Церковью, ставя перед собой цель ее постепенного уничтожения как социального института, религиозной организации. Именно так воспринимают Церковь неверующие люди, они не верят в Божественную природу Церкви и догмат о ее вечности и неуничтожимости: «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3: 15). Много было брошено сил и средств на искоренение религиозности православного русского народа. Атеистическая пропаганда велась по всей стране на государственном уровне. Однако решить эту задачу большевикам не удалось. Спустя 20 лет после установления советской власти, в 1937 году в СССР была проведена всесоюзная перепись населения. Она показала, что верующие составляют большинство населения страны. В общей сложности опросили 98,3 млн человек. Выяснилось, что из них 42,2 млн являются неверующими, что составляет 42,9 %. Верующими являются 55,2 млн человек, что составляет 56 %. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны примерно половина граждан СССР сохранила свой религиозный настрой и не побоялась известить об этом органы государственной власти. Следовательно, к началу Великой Отечественной войны социальная база для будущего религиозного возрождения все-таки была. К началу Великой Отечественной войны примерно половина граждан СССР сохранила свой религиозный настрой
— А сами начавшиеся в 1941 году военные действия способствовали увеличению числа верующих и росту религиозности населения?
— Несомненно, было именно так. Когда началась война, очень многие люди, оказавшиеся на фронте, да и в тылу, испытывали потребность в трудную минуту обращаться к Богу и святым, искать помощи у неведомых им потусторонних сил. Мы не будем сегодня касаться сложного вопроса проявления религиозности у советских солдат и офицеров на войне. Это большая тема, требующая своего научного осмысления. Скажем только о тех, кто был в тылу, а это были в основном женщины — солдатские матери и жены. Когда весь дом в городе или вся деревенская улица с надеждой и страхом каждый день ожидала почтальона, который приносил не только долгожданные письма с фронта, но и похоронки — уведомления командования о гибели солдата, многие люди, ранее считавшие себя неверующими, начинали постоянно молиться, чтобы их родственники остались живы и печальная весть их миновала.
В 1941 году при отступлении Красной армии огромное количество советских солдат оказалось в немецком плену, в партизанских отрядах на вражеской территории или погибло при неизвестных обстоятельствах. В таких случаях родственникам через военкоматы сообщали, что их сын или муж пропал без вести. Где было женщинам, старикам и детям найти ответ на нечеловеческий вопрос — жив или мертв дорогой им человек? Только молитвой к Богу они могли укреплять свою надежду на будущую встречу, поддерживать свои силы, чтобы не впасть в отчаяние, не заболеть и не умереть от тоски. Не проводя статистических исследований, можно смело сказать, что война вызвала настоящий всплеск религиозности в стране. Не случайно говорят, что война — это время, когда молятся все.
— Как известно, центром религиозной жизни для христиан является храм, где совершаются церковные таинства и обряды. Какова была ситуация с православными храмами в годы Великой Отечественной войны?
— К 1941 году в СССР действовало всего 3732 православных храма, из них около 3350 — на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии, присоединенных к СССР в конце 1939 года, и только примерно 350-400 — на остальной территории страны. В РСФСР были области, где не осталось ни одного действующего православного храма, в 20 областях функционировало от одной до пяти церквей. При этом храмы в СССР продолжали систематически закрываться властями до самого начала войны. Можно заключить, что количество действующих храмов на советских территориях, не занятых к осени 1941 года врагом, было просто мизерным — не более 100 церквей, находившихся в юрисдикции Московской Патриархии.
— Каким же образом верующие люди в таких условиях могли удовлетворять свои духовные нужды?
— Война все-таки изменила ситуацию для Церкви в лучшую сторону. Русская Церковь, возглавляемая Патриаршим местоблюстителем митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским), уже 22 июня 1941 года открыто заявила о своей патриотической позиции и призвала народ к защите Родины. Верующие стали оказывать материальную помощь фронту и обращаться в высшие государственные инстанции с просьбой открыть храмы. Коллективные ходатайства поступали на имя И. В. Сталина, М. И. Калинина, К. Е. Ворошилова. Правительство понимало, что необходимо дать верующим возможность молиться за живых и погибших, получать утешение и поддержку через молитву в церкви. Поэтому большинство ходатайств было удовлетворено. Первые открытые храмы появились уже в 1941 году, открывались они решением Совета Народных Комиссаров СССР, а с 1943 года, когда церковно-государственные отношения кардинально улучшились, — решением Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР. С каждым годом количество действующих храмов в СССР становилось все больше и больше. К 1945 году Русская Православная Церковь уже имела 10 243 действующих храма и молитвенных дома. Эта цифра убедительно говорит об изменении курса государственной религиозной политики в годы войны и о мощном возрождении церковной жизни в СССР.
— Легко ли было организовать богослужебную жизнь в открывавшихся храмах?
— Реанимировать богослужебную жизнь в храмах, передававшихся в годы войны, было очень непросто. Начнем с того, что власть, исходя из неизменных атеистических установок, старалась возвратить Церкви те храмы, которые находились далеко от крупных городских центров, и тем самым переместить эпицентр религиозной жизни в сельскую местность. В крупных областных центрах, как правило, разрешали открыть 2-3 церкви. В городских районных центрах — одну церковь. Обычно это были небольшие кладбищенские храмы, сокрытые от глаз неверующих советских людей.
— В каком состоянии находились переданные храмы?
— Очень редко власти передавали храмы в хорошем состоянии, со всей церковной утварью. Такие храмы, закрытые в 1930-е годы и чудом сохранившиеся, изредка можно было встретить в столицах, иногда в сельской местности. Однако большинство храмов передавалось совершенно разоренными, в аварийном состоянии. Многие закрытые церкви перед войной варварски использовались колхозами как парки сельскохозяйственной техники, хранилища зерна и картофеля, клубы и танцевальные площадки, спортивные залы и т. д. В годы войны в промышленных городах многие передаваемые храмы использовались под склады вооружения и боеприпасов. Можно сказать, что общины верующих получали из рук властей только стены. Все остальное приходилось делать самим: проводить ремонты, обустраивать церковь для богослужения.
— Как выглядел типичный православный храм в годы войны?
— Первым делом, конечно, устанавливался крест на куполе, чтобы было видно, что храм теперь действующий. На колокольню вешали уцелевшие колокола или рынды. В 1943 году И. В. Сталин разрешил производить в церквях колокольный звон. Учитывая отсутствие и дефицит необходимых материалов, внутреннее убранство переданных храмов было чрезвычайно скромным, даже убогим. Обычно стены красили белой, зеленой или синей масляной краской. Из-за отсутствия стекла окна часто забивали досками, картоном или фанерой. Из тех же материалов изготавливали иконостасы, которые красили той же масляной краской. Не везде удавалось наладить освещение, и в храмах царил полумрак. У многих церквей сохранились печи, которые в холодное время года перед богослужением топились дровами или углем.
— Важное значение в храме имеют иконы и церковная утварь. Скажите, где приходам удавалось их получить?
— Обычно верующие приносили иконы из дома. В 30-е годы богоборцы из «Союза воинствующих безбожников» и милиция занимались уничтожением святых икон, поэтому в храмы приносили те иконы, которые удалось вынести из закрытых церквей и спрятать. Они были главным украшением храмов в то время. Иногда иконы писались местными умельцами. Конечно, художественное качество их было невысоко.
Церковную утварь искали по всей округе: на складах, в подвалах, на чердаках и свалках металлолома. Обычно верующим помогали восстанавливать храм руководители заводов и колхозов, они давали необходимые материалы для ремонта. Иногда из отходов производства — железа, меди и латуни — изготавливали примитивную и грубую на вид церковную утварь: подсвечники, светильники, семисвечники, кадила, венцы, напрестольные кресты. Престолы, жертвенники и аналои изготавливали из деревянных реек и обтягивали простой тканью. Даже этим, лишенным изящества, предметам общины верующих были очень рады.
— Особое внимание в Церкви всегда уделяется литургическим сосудам. Они должны быть освящены и соответствовать высоким требованиям. До революции Чаши (потиры), дискосы, лжицы изготавливались из благородных металлов. Какие были возможности у духовенства и приходов в военное время?
— Конечно, в условиях военного времени соблюсти все требования к литургическим сосудам было невозможно. Служить Литургию было необходимо, а взять серебряные или позолоченные сосуды было негде. Вы помните, что в 1922-1923 годах советское правительство проводило печально известную кампанию по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья. Именно тогда самые ценные литургические предметы из серебра и золота были изъяты из храмов и отданы на переплавку. Однако священникам и верующим иногда удавалось скрыть и тем самым спасти Чаши и дискосы. Когда пришло время, епархии и общины выкупали такие вещи на рынках у торговцев антиквариатом, родственников священников и церковных старост, погибших в лагерях в 30-е годы. В общем, литургические сосуды иногда разными путями возвращались в открытые церкви. Но это были исключительные случаи.
В основном, как всегда, священникам приходилось проявлять изобретательность и довольствоваться тем, что было под рукой. Потиры и дискосы изготавливались самими священниками или заводскими мастерами из меди и латуни. Иногда священники служили на деревянных или оловянных потирах и дискосах, как во времена Средневековья. В некоторых епархиях священники, за неимением потиров, использовали хрустальные вазы с высокими стенками и даже граненые стаканы. Были и совершенно неординарные случаи. Однажды один архиерей, приехав в сельский храм, увидел, как священник причащает прихожан из странного стеклянного предмета. Когда он спросил об этом священника, тот ответил, что под потир он приспособил большую стеклянную фару от мотоцикла. Таковы были реалии того времени.
— Известно, что священник должен совершать Литургию и другие таинства в священных облачениях. Как решалась эта проблема в годы войны?
— Достать облачения дореволюционного пошива было практически невозможно. Расшитые золотом или серебром парчовые церковные ризы и митры тоже изымались из закрытых храмов, сдавались в музеи или уничтожались. Во время войны приходилось шить саккосы архиереям, ризы священникам и диаконам из самых простых материалов, которые тоже были в дефиците. В ход шли куски бархата, которые верующие приносили из дома. В некоторых епархиях шили облачения из штор, тюлей, одеял. Кресты на ризах вышивали бисером и нитками. Обычно этим занимались монахини из закрытых монастырей, которые старались поселиться неподалеку от храма. Они с удовольствием обшивали архиереев, священников и вновь открытые храмы, считали это своим церковным послушанием. Для новопоставленного архиерея было роскошным подарком получить перед хиротонией от Патриарха Сергия (Страгородского) или Алексия I (Симанского) облачение дореволюционного пошива.
— Вы говорите, что многие обязательные литургические предметы и облачения священникам удавалось «соорудить» из простых бытовых вещей. Но есть в церковном уставе и другие требования к совершению Божественной литургии, которые не могут быть выполнены путем имитации. Например, Литургию священник должен совершать, используя настоящее красное вино, просфоры из белой пшеничной муки, на престоле должен быть антиминс — плат со вшитой частицей святых мощей. Каким образом удавалось выполнить эти требования? Или они не выполнялись?
— Я удивлю Вас, но в годы Великой Отечественной войны эти уставные требования полностью выполнялись. В этом Церкви помогало государство. Действительно, ни один священник, ни один приход не был способен в военное время самостоятельно обеспечить себя красным вином и белой пшеничной мукой. Такие продовольственные товары было невозможно купить даже на рынке за большие деньги. Они относились к категории особо ценных товаров и не поступали в открытую продажу. Решение этой проблемы стало важным делом архиереев — управляющих епархиями, которые через уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви получали разрешение на покупку вина и белой муки для своих приходов на специальных государственных складах, организованных в каждом областном или краевом центре. Чтобы это стало возможным, понадобились специальные распоряжения правительства СССР и личное разрешение И. В. Сталина. Известно, что на таких складах отоваривалась только высшая партийная номенклатура и ограниченный круг государственных учреждений.
Что касается антиминсов, здесь проблема часто решалась совершенно необычным путем. В 30-е годы, когда массово закрывались православные храмы, антиминс оказывался самым «ненужным» предметом для воинствующих безбожников. Он был сделан из ткани и не имел для них материальной ценности, поэтому антиминсы при конфискации церковного имущества обычно сдавались в местный районный или областной музей. Там они скапливались в больших количествах и даже не ставились на учетное хранение по причине малоценности.
Известно, что назначенные на возрожденные епархии архиереи быстро находили общий язык с музейными работниками, среди которых было немало заштатных священников, детей духовенства и просто верующих людей, поэтому брошенные в музейном подвале старые антиминсы, иногда даже с частицами мощей, тихо перекочевывали в епархиальные управления, а затем и в приходы. В свою очередь, о недостатке антиминсов архиереи постоянно писали в Московскую Патриархию. Усилиями священноначалия в целом эта проблема была решена.
— Если в годы войны найти богослужебные предметы священникам и архиереям было чрезвычайно сложно, то, наверное, еще сложнее было найти самих правильно поставленных священников, без которых храм не может функционировать, а таинства не совершаются?
— Вы правы, кадровый вопрос во всех епархиях Русской Православной Церкви был чрезвычайно острым. С сентября 1943 года, после исторической встречи митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского), Николая (Ярушевича) с И. В. Сталиным стали возрождаться закрытые в 1935 году епархиальные управления. Назначенные на кафедры архиереи стали заниматься формированием епархиального клира. Открытие храмов требовало резкого увеличения количества духовенства. Однако духовные школы, возрожденные в 1944 году — Православный богословский институт в Москве и несколько богословско-пастырских курсов, — еще не могли обеспечить духовенством Русскую Церковь.
— Где же удавалось найти священников для большого числа открывшихся храмов?
— Кадровая проблема решалась разными путями. В первую очередь архиереи старались вернуть к пастырскому служению тех священнослужителей, которые находились за штатом. Многие из пастырей подверглись репрессиям в 30-е годы. Отсидев в лагере от трех до пяти лет, а иногда и до десяти лет, они выходили на свободу и уже не восстанавливались на службе. Имея образование, священники и даже некоторые архиереи вели частную жизнь и работали на советских предприятиях, в больницах, музейных учреждениях и т. д. Епископы старались их разыскать и убедить вернуться к своему служению. Но это не всегда удавалось, так как те боялись новых репрессий после окончания войны. И все же эти усилия были не напрасны. К 1945 году в некоторых епархиях количество ранее репрессированного и восстановленного на службе духовенства достигало 25-30%. Чтобы пополнить ряды духовенства, архиереи старались совершать много хиротоний. Но ставленниками, как правило, оказывались возрастные и даже престарелые люди, которые не могли быть призваны в армию.
В 1944-1945 годах кадровая проблема была во многом решена за счет обновленческого духовенства, которое по приказу государственных органов должно было покинуть раскол и воссоединиться с Русской Православной Церковью. Как правило, это были священники, запятнавшие себя сотрудничеством с органами ОГПУ-НКВД и нарушением церковных канонов. Но особого выбора у епископов не было. Главная задача, которую надо было решить, — обеспечить приходы духовенством.
— А были среди священников участники Великой Отечественной войны?
— Конечно, но их было очень мало. Когда началась война, власти старались не призывать в боевые части священнослужителей и их детей. Не потому, что ими дорожили, а потому что им не доверяли. До войны Церковь была на подозрении у советских спецслужб. На духовенство долго вешали клеймо «вражеских шпионов», «диверсантов», «заговорщиков», одним словом — врагов советской власти и народа. Ожидалось, что преследуемая и уничтожаемая в 20-30-е годы Русская Церковь встанет на сторону врага. Но этого не произошло. А вот недоверие к священнослужителям осталось, поэтому если священник все-таки мобилизовывался, то он попадал не на передовую, а в трудармию или в тыловые части.
И все же настоящие ветераны войны среди духовенства были. Демобилизованные из армии после тяжелого ранения верующие мужчины охотно рукополагались архиереями в священный сан. Но это были единичные случаи, так как эти люди обычно были сильно покалеченными. Приток в духовенство людей с боевым опытом, прошедших суровыми дорогами войны, наблюдался после ее окончания. Были люди, которые на фронте обращались к вере или давали обеты Богу принять монашеский постриг или священный сан, если останутся живы. Яркими примерами являются наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), который прошел боевой путь от Москвы до Берлина в составе 4-й гвардейской танковой армии, и архимандрит Троице-Сергиевой лавры Кирилл (Павлов), оказавшийся в апреле 1943 году в Сталинграде и после войны поступивший в семинарию.
— Как Вы можете охарактеризовать духовенство, служившее в годы Великой Отечественной войны?
— Это непростой вопрос. Я уже сказал, что духовенство, собранное и рукоположенное архиереями в военное время, было неоднородным и сложным по своему составу. В одной епархии служили исповедники, прошедшие сталинские лагеря, и вчерашние раскольники — обновленцы, которым благоволила гражданская власть; много было новых людей, благочестивых, но не имевших понятия о церковном служении, без элементарного образования. Общая характеристика духовенства той эпохи — оно было возрастным и малообразованным. Средний возраст священнослужителей большинства епархий колебался от 55 до 75 лет. Богословское образование, полученное в дореволюционных семинариях и академиях, имели единицы. За двадцать лет жесточайших гонений и репрессий образованный слой духовенства Русской Церкви погиб в лагерях, а епископат был практически уничтожен, поэтому священноначалию приходилось довольствоваться теми, кто остался, кто выжил. Но это не всегда были те люди, которым можно было доверять и на которых можно было положиться.
— Как они служили в открывшихся в храмах?
— Служили как могли и как понимали свое пастырское призвание. Среди духовенства было немало совершенно больных людей, потерявших здоровье в лагерях. Иногда это были настоящие инвалиды, со сломанными руками и ногами, перебитыми позвоночниками. На допросах в НКВД со священниками не церемонились, били жестоко, что называется наотмашь. Некоторые священники, недавно вышедшие из лагеря, передвигались при помощи палки или костылей. Конечно, это были настоящие подвижники и исповедники, которые, несмотря на травмы и обиды, поддержали Церковь в трудную минуту и продолжали свое служение, нужное православному народу.
Конечно, в богослужебной жизни приходов и духовенства было немало изъянов. Наблюдая за служением подчиненного духовенства, архиереи часто жаловались Патриарху Сергию, указывая на то, что священники совершают службы торопливо, сокращают богослужения или по неграмотности просто не умеют их правильно совершать. Общая исповедь совершенно заменила собой исповедь частную, так как священникам не хватало сил и времени исповедовать большое количество прихожан. Принятые из раскола обновленцы не спешили расставаться со своими привычками и образом жизни, тяготели к нравственной распущенности. Одним словом, наблюдался целый комплекс проблем пастырского служения. Но все же каждый священник в то время был на счету, на своем боевом посту и приносил пользу Церкви и людям, нуждавшимся в окормлении и утешении. Море народного горя было столь велико, что черпать его священникам приходилось «чайными ложками».
— Вы уже сказали о некоторых проблемах в совершении богослужений, которые зависели непосредственно от священников. Какие еще возникали сложности, зависящие от прихожан?
— Конечно, такие сложности были. В первую очередь потому, что прихожан было очень много, а храмов и священников мало. По наблюдениям уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, иногда в городах небольшую церковь, рассчитанную на 350-400 молящихся, в воскресные и праздничные дни посещало до 1,5-2 тыс. человек. На Пасху и Рождество — от 3 до 5 тыс. человек. Многие люди даже не могли попасть в храм во время Литургии и толпились на улице. В храмах была жуткая теснота и духота. Людей набивалось столько, что они стояли плотно и с трудом могли поднять руку, чтобы наложить на себя крестное знамение.
Было еще одно явное горе — засилье нищих и бродяг. В больших городах, где было много военных госпиталей, на улицах можно было встретить огромное количество калек — безногих, безруких людей в военных гимнастерках, передвигавшихся на костылях или тележках. Государство не оказывало помощи военным инвалидам, они были никому не нужны. Голодные и озлобленные вчерашние фронтовики скитались по улицам городов и, конечно, просили милостыню в церковной ограде. В дни, когда в церкви совершалась служба, десятки, а иногда и сотни нищих калек буквально осаждали храмы, устраивали драки, нарушали порядок. Некоторые из них проникали внутрь храма, во время богослужения громко разговаривали, иногда забирались на амвон и оттуда обращались к людям за помощью. Священникам приходилось останавливать службу и наводить порядок. Церковные советы, состоящие из престарелых людей, не могли справиться с этой проблемой самостоятельно и просили помощи у гражданской власти.
— Как удалось решить это проблему?
— Она решилась после войны, но не сразу. 23 июля 1951 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Милиция в городах и в транспорте стала задерживать таких людей. За два года в СССР было задержано и вывезено за пределы городов около 450 тысяч нищих, из которых 70% составили инвалиды войны и труда. В известной степени это нормализовало церковную жизнь приходов.
— Кроме Божественной литургии, какие еще богослужения совершались в открытых храмах?
— Конечно, кроме уставных богослужений суточного круга, священникам приходилось совершать много треб. Во время войны ослабли и почти прекратились репрессии, но никто из духовенства и верующих в точности не знал, какова будет религиозная политика власти после ее окончания, поэтому боялись и торопились. Верующие люди приводили креститься своих детей и внуков. Крещение детей приобрело массовый характер, что, конечно, не нравилось гражданской власти. Иногда архиереи были вынуждены делать внушения священникам, которые крестили разом по 30–50 детей и взрослых, не меняя воду в купели. Таинство Венчания совершалось редко, так как вступать в брак было некому, молодые люди находились на фронте. И, конечно, совершались бесконечные молебны о воинах и панихиды о погибших. Они служились после каждой Литургии, а в некоторых храмах и каждый день по несколько раз.
— Скажите, а как обстояло дело с проповеднической деятельностью духовенства за богослужением?
— Я уже сказал, что епархиальное духовенство, служившее в годы войны, было в основном малограмотным, богословски необразованным. Конечно, этот важный элемент богослужения сильно страдал. Многие священники, не учившиеся в семинариях, не умели произносить проповеди. В лучшем случае они могли что-то прочитать. Но религиозная литература находилась под запретом, и взять ее было негде. По содержанию проповеди пастырей носили патриотический и утешительный характер. Священники призывали прихожан помогать фронту, молиться за победу над врагом, не отчаиваться и не падать духом в трудных обстоятельствах. Обязательными были проповеди о значении молитвы за умерших, так как среди родственников прихожан было много погибших. Мне рассказывали, что иногда священники за богослужениями прочитывали записанные кем-то военные сводки Совинформбюро, после чего призывали народ к усердной молитве за бойцов Красной армии.
— А как обстояло дело с богослужебным пением и чтением?
— В годы Великой Отечественной войны в храмах ощущалась нехватка богослужебных книг, которые тоже уничтожались в 20-30-е годы. Издательская деятельность Московской Патриархии еще не была налажена. Триоди, Минеи, Октоих, требники, акафисты дореволюционной печати были редкостью. Иногда верующие, монахини и сами священники переписывали их от руки. Однако в церквях, как правило, были люди, которые умели петь и читать на церковнославянском, знали церковную службу. На клиросе часто пели монахини закрытых монастырей и обученные псаломщики. Среди прихожан находились любители читать Шестопсалмие, Апостол, часы. Можно сказать, что богослужебная культура в годы гонений не умерла и в военный период переживала определенный расцвет. Проблема была в другом: все эти люди, певшие и читавшие на клиросе, прислуживавшие в храмах, находились в почтенном возрасте. По этой причине пение и чтение часто утрачивало свою красоту, было невнятным и с трудом воспринималось слушающими.
В заключение хочу сказать, что период Великой Отечественной войны, охватывающий 1941-1945 годы, — это действительно выдающаяся и яркая страница нашей государственной и церковной истории. Подвиг народа совершался не только на фронтах, но и в тылу. Он носил и военный, и трудовой, и молитвенный характер. Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в Победу является важной темой, которая еще долго будет изучаться церковными историками и богословами. Мне хотелось бы, чтобы разговор об этих трудных и жестоких для нашего народа годах носил честный и объективный характер. Сегодня пришло время, опираясь на реальные факты и документы, говорить правду о проблемах и трудностях церковной жизни этого периода, указывая на лучшие примеры и пути Промысла Божия о Русской Церкви. Желаю всем помощи Божией и благословенных успехов в научной работе!
Беседовал диакон Сергий Архутич