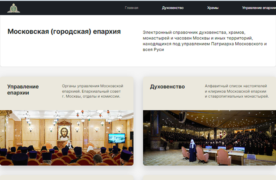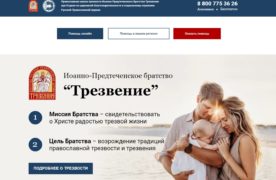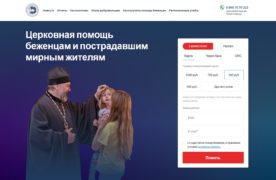Доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов поделился с ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии» священником Александром Волковым своими размышлениями о том, с чего начинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько должна длиться идеальная проповедь, можно ли читать вслух «тайные» молитвы в алтаре и какая главная проблема в церковной жизни обнаружилась во время эпидемии ковида (№ 9, 2021, PDF-версия).
Доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов поделился с ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии» священником Александром Волковым своими размышлениями о том, с чего начинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько должна длиться идеальная проповедь, можно ли читать вслух «тайные» молитвы в алтаре и какая главная проблема в церковной жизни обнаружилась во время эпидемии ковида (№ 9, 2021, PDF-версия).
В главном — единство
— Алексей Ильич, хотелось бы с Вами поговорить в первую очередь о богословии как об образе мысли и об образе слова. Вы всю жизнь этим занимаетесь: думаете о Боге и говорите о Боге. Что такое богословие для Вас лично?
— Приведу знаменитые слова Иоанна Лествичника: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Что это он сказал? При чем тут чистота? Может быть, — мысль, сила ума, эрудиция? Нет! Именно совершенство чистоты! Это критерий, по которому мы можем судить о том, какое богословие находится в данный момент перед нами.
Можно всю жизнь говорить о Боге и остаться без Бога. Богословие не должно быть какой-то абстракцией, теоретической моделью. Но на деле очень часто получается, что Бог Сам по себе, а я сам по себе.
Например, протестантизм с самого начала провозгласил: спасаемся «только верой» и «только Писанием». И этого достаточно для богословия? Вот пример. В Австралии была очередная ассамблея Всемирного совета церквей. Что можно было услышать там? Дух Святой — это женское начало в Троице. Иисус Христос — это, конечно, идеальный человек, но говорить о Нем как о Боге не стоит. Богородица — Приснодева? Ну, знаете, это слишком. Это же невозможно! И так далее. И все это говорили не кто-нибудь, а доктора, профессора богословия!
Отсюда возникает вопрос: по каким же критериям можем мы судить о верности или ложности того или иного богословия? Что должно быть основой богословской науки? При каком условии те или иные богословские идеи могут рассматриваться как верные, как допустимые, не искажающие учения Откровения? Если скажем — им является только Священное Писание (кажется, прекрасный тезис), то возникает следующая неразрешимая проблема. Вот мы сейчас сидим и размышляем, как понять, например, слова в Деяниях апостолов о епископах, пресвитерах. Это административные должности или священные степени иерархии? А вопросы о Евхаристии, о соединении природ во Христе и так далее? Какое понимание и на каком основании можно считать правильным? Мы же знаем, сколько разделений произошло в христианстве по причине именно разного понимания Священного Писания.
Но в таком случае где же критерий истинности? На этот вопрос прежде всего и должно ответить богословие. Что же оно такое? По идее, это, конечно, познание Бога. Но при каком условии оно может быть истинным?
Все, кажется, должны бы согласиться, что этим условием является та чистота сердца, о которой сказал Сам Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Но кто эти чистые сердцем, которые видят Бога и, следовательно, являются богословами? Этот вопрос и стал непреодолимым средостением между богословием действительным и мнимым, между чистыми сердцем и гордыми умом.
Уже древние гностики считали себя боговидцами. Западными же схоластами рассуждения о Боге были доведены до такой нелепой изощренности, что нередко становились предметом законной критики и насмешек. Вспомните, например, «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского.
Однако именно это чисто умовое, рациональное богословие и стало единственной богословской наукой в католичестве, протестантизме и в православных школах до сего дня и, несомненно, пребудет до скончания века. Посмотрите хотя бы на названия дисциплин и их программы в бакалавриатах, магистратурах богословских школ. Богословие чистого сердца оставалось какое-то время в отдельных православных монастырях. Мысль же, что истинное видение Бога, то есть богословие, возможно только через очищение души (ума и сердца) от страстей, отвергнута и полностью заменена игрой ума, которой можно успешно заниматься, даже не веря в Бога. Об этом с горечью писал выдающийся святой епископ-аскет XIX века Игнатий (Брянчанинов).
Но кто достигал в своей жизни истинного боговидения? Только подвижники веры. Их святая жизнь поэтому может являться единственным гарантом истинности их боговидения, их богословия. Возразят: и святые расходились во мнениях, и они спорили между собой. Верно. Поэтому в Православии критерием истинности является не просто мнение того или иного отца, но их согласное учение (сonsensus patrum) по конкретному вопросу. Ибо когда множество святых отцов разных времен, народов, образования, часто не зная друг друга, согласно утверждают одно и то же, то совершенно ясно, что здесь говорит уже не просто ум, эрудиция человека, не его домыслы, а голос Святого Духа. Да, и такими вопросами, как правило, являлись самые основные: вероучительные и аскетические. Это хорошо выражено в основополагающем правиле: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas («В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь»). Такое согласие отцов действительно — основа истинного богословия.
Так было на Вселенских Соборах, которые иногда месяцами продолжались. Почему так долго? Потому что читали, изучали святых отцов по обсуждаемому вопросу. Спорили. Это была очень трудная работа. Нужно было узнать, что пишет Василий, Афанасий, Григорий, прочие. Таким образом отцы приходили к единому убеждению и принимали окончательное суждение. Об этом великолепно сказал преподобный Симеон Новый Богослов (Х век): «И [таковой человек]... всем другим [то] описывает, излагая богоприличные догматы, как все предшествовавшие святые отцы учат; ибо таким образом они божественный символ сложили».
Есть два вида богословия, которые принимаются Церковью. Первое — когда им занимается святой человек, достигший чистоты сердца. Его учение, согласное с учением других святых отцов, и является истинным богословием.
А когда по какому-то вопросу такого учения нет, то остается широкое поле для мысли при условии отсутствия противоречий со Священным Писанием и святоотеческим Преданием Церкви.
Второй вид прямо показывает опыт соборных решений Церкви. Отцы Соборов не просто сами решали все вопросы, как это делается на обычных человеческих собраниях, но изучали святоотеческое учение по данному поводу, принятое Церковью, и затем на этой основе принимали решение. Это святоотеческое наследие велико. И теперь еще сотни томов отеческих творений ожидают своего перевода с древнегреческого и латинского языков. Так что пищи для занятия богословием на все времена более чем достаточно. Этим святоотеческим наследием богословская мысль не связывается, но получает твердый богооткровенный фундамент для своего верного развития. И только самомнение может игнорировать это сокровище. По такому пути самости пошло западное богословие и запуталось в дебрях умствования. Почему протестантизм распался на множество ветвей? Потому что у каждого «богослова» свое мнение по любому вопросу — святые отцы им не авторитет.
Но Христос сказал: «Я есть истина». Следовательно, есть не только мнения, но и истина! И где ее можно найти, кроме согласного учения отцов?
Чтобы тебя услышали — говори кратко
— Вы уже на протяжении, наверное, лет пятидесяти преподаете в духовных школах. Очень многие люди, которые хотят богословствовать в нашей Церкви, учились этому у Вас. Чем является, на Ваш взгляд, богословие для будущего пастыря? Одной из дисциплин? Необходимостью выучить и сдать страшному профессору Осипову свой предмет? Или для каждого будущего священника это очень важная часть его жизни?
— Есть две крайние точки зрения. Одна из них: главное для священника быть богословски образованным, и это является показателем его священства. Вторая крайность: главное — совершение богослужений. Учеба же и получение богословского образования — это только помеха его пастырскому служению.
Но крайности, как всегда, сходятся в том, что они одинаково опасны и вредны. И образование, и невежество без жизни по евангельским заповедям, без борьбы со своими страстями, без молитвы (а не вычитывания положенных молитв и поминаний!) одинаково превращают принявшего священный сан в бездушного жреца, наемника, который совершает не богослужение, а пустой обряд, не освящающий ни себя, ни людей. Ибо слово «священник» происходит от «святой», «освященный».
Священник, являясь прежде всего наставником и учителем народа, должен твердо знать и догматы веры, и основы духовной жизни. Это начальное богословие необходимо каждому пастырю, и потому нужно учиться. Но он должен быть и священником по существу, то есть молитвенником, духовным руководителем и помощником каждого верующего. Заниматься же богословием ради богословия, ради каких-то амбиций, естественно, неразумно, поскольку не принесет пользы ни ему, ни пастве.
Но, повторюсь, крайние точки зрения губительны. Потому что сколько угодно тех, которые великолепно знали богословие, но, оставив христианскую жизнь, вообще отпадали от Церкви. Точно так же и не хотящие знать ни Писания, ни отцов заводили народ в дикие дебри суеверий.
— Алексей Ильич, Вы сказали об учительстве как о ключевой составляющей пастырского служения. Но каждый ли священник должен выходить на амвон для проповеди? На Ваш взгляд, проповедь для священника — вещь принципиально первостепенная, или все же она только для избранных, для тех, кто изнутри чувствует необходимость такой деятельности?
— Каждый священник должен проповедовать, иначе он не пастырь, а жрец. Если он не имеет дара слова, а такое бывает, никто не мешает ему найти полезную проповедь, хорошие отрывки из святых отцов и просто зачитывать их. До середины XIX века проповеди только читали, никто не смел говорить их от себя. И когда архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев) начал произносить свои импровизированные поучения, это стало открытием. Живое слово! Поэтому не можешь говорить — потрудись найти подходящий текст, выйди на амвон и скажи: «Сейчас я вам зачитаю наставление такого-то святого, оно небольшое, не беспокойтесь, долго вас не задержу». Не надо только этих получасовых проповедей, не надо мучить народ. Пять, максимум десять минут — и этого достаточно для доброго назидания.
— Всего пять минут? А сколько, на Ваш взгляд, должна длиться идеальная священническая проповедь? Столько же?
— Десять минут — это предел. Может и пяти хватить, потому что люди, особенно не получившие образования, неспособны слушать дольше. Об этом говорят и психологи. Чтобы тебя услышали, нужно говорить кратко.
Самую большую похвалу я, например, когда был студентом, получил именно за это. В Академии мы должны были произносить проповеди на акафисте, когда все духовенство выходит в центр храма. И вот, помню, стоит ректор, отец Константин Ружицкий, уже старенький, и я произношу трехминутную проповедь. Как же он меня благодарил — за краткость!
— Но чем короче проповедь, тем ее сложнее готовить. Полчаса говорить легче, чем пять минут.
— Да, растекаться мыслью по древу, может быть, и проще. Для проповеди нужна одна хорошая мысль, чтобы она осталась у людей в сознании. В чем заключается одна из бед проповедников? Вот праздник, и он начинает пересказывать уже всем известную его историю. А каков его духовный смысл, какое он имеет отношение к нашей внутренней жизни, какое назидание мы имеем — ни слова. Но ведь каждый церковный праздник — это не просто событие, но и научение людей. Вот в чем суть проповеди! Но часто этого нет.
— Вы сейчас вспомнили об истоках Вашей деятельности в духовных школах. Вы видели семинаристов и в советское время, и после перестройки, и в начале нового века, и сейчас. Как, на Ваш взгляд, сильно за это время изменились современные молодые люди, стремящиеся к священству?
— Часто, сравнивая прошлое и настоящее, мы склонны говорить: тогда и трава была зеленее, и солнце ярче. Молодежь, конечно, меняется. Раньше студенты были более ответственными. Получил неуд — просит преподавателя назначить пересдачу, спрашивает, когда можно это сделать. Назначают число, и он сдает.
Сейчас нередко происходит иначе. Получившему двойку говорят: такого-то числа Вы должны пересдать предмет. В назначенный день его — ни слуху ни духу. Вызывают, назначают новую дату. Опять нет! Наконец последнее предупреждение. Эта безответственность — какая-то болезнь души, теперь очень распространенная. Конечно, на это серьезно повлияла атмосфера жизни, радикально изменившаяся в перестройку, когда с Запада в нашу страну хлынула буквально вся грязь.
Но сами по себе ребята — они такие же, как были тогда. Есть интересующиеся учебой, а есть такие, которым хоть кол на голове теши. Было раньше такое? Конечно! Такое разделение людей можно наблюдать, видимо, в любой исторический период. Ведь знаете какие у нас бывали случаи? Просто страшные. Дети священника. Спрашиваешь одну молитву — не знает, вторую молитву — не знает! Так дома у вас читают молитвы или нет? Естественно, нет. Вот это уже катастрофа, когда в семье священника нет ничего священного.
Какая-то происходит общая деградация религиозности. Вспышка интереса была, когда Церкви дали внешнюю свободу. Но теперь, по-моему, ищущих становится все меньше и меньше.
Крещение без веры бесполезно и вредно
— Люди, которые сегодня приходят в храм, чтобы принять крещение или стать восприемниками, должны посетить несколько огласительных бесед. Насколько сегодня, на Ваш взгляд, практика обязательной катехизации оправдывает себя?
— Если говорить о самой идее, то, конечно, она хорошая. Но несколько бесед — часто это просто формальность, такой минимум, который мало что дает.
Катехизация нужна, чтобы люди приходили ко крещению не вследствие популярного обычая, не по каким-либо суеверным представлениям, не как к магическому обряду, который спасет человека от несчастий, ибо на таких падают грозные слова пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48:10), — а принимали священное таинство с верой, осознанием, согласием и желанием. Это чрезвычайно важно знать каждому. Святитель Игнатий (Брянчанинов) еще в XIX веке писал: «Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся впоследствии в полном неведении о том, что́ мы приняли?»
Мне кажется, что в настоящее время важно было бы рассмотреть вопрос о воцерковлении крещенных в детстве. Может быть, разработать для этого даже особый чин, в котором человек уже сознательно бы исповедал свою веру и давал обещание исполнения крещальных обетов. Ибо крещение без твердого намерения изменить свою жизнь не принесет человеку пользы, и ему, как и крестным, придется за это отвечать перед Богом.
— На Ваш взгляд, нам стоит подумать над тем, чтобы ужесточить условия вхождения людей в Церковь?
— Да, это просто необходимо. Выскажу, может быть, непопулярное мнение, но считаю принципиально важным, чтобы человек принимал крещение сознательно. Неужели не понятно, что нельзя за другого человека исповедать веру, чтобы он мог поисповедоваться, причаститься, обвенчаться, стать монахом, пособороваться, принять сан? А почему же это стало возможным для принятия крещения, миропомазания? Без веры и согласия человека никакое таинство не принесет ему пользы. И крещение требует веры человека, как сказал Сам Христос: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).
— Но Ваши оппоненты на это ответят, что есть действие благодати Святаго Духа, которая немощная врачует. Человек покрестился, и потом — может быть, через десять лет — он уже осознанно приходит в храм.
— «Немощная врачует», когда я переживаю за свою немощь и молюсь: «Господи, помоги мне!» Тогда человек действительно может получить благодать Святого Духа. А если мы думаем, как протестанты, что Бог за меня всё сделает, то глубоко ошибаемся. Святые отцы сказали: Бог не может спасти человека без воли самого человека.
— Все же вера — это действие Бога в человеке. Разве нужно лишать Бога возможности нас спасти, даже если мы Его по своей духовной немощи пока об этом не просим?
— Православие исповедует синергию, а не безусловную власть Бога над человеком, ибо в таком случае Бог был бы виновен во всех наших грехах. Но Он видит душу человека и знает, когда тот желает жить по-христиански, молится об этом, но его сил не хватает, а когда — и не хочет, и не просит. О таком сказал Христос: «Лукавый раб и ленивый... негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:26,30).
— Но известны многие примеры удивительной веры детей, воспитанных с самого младенчества в храме, в церковной среде. И они действительно часто вырастают добрыми христианами.
— Да, так бывает, если ребенок растет в хорошей церковной атмосфере. Еще Пимен Великий говорил: «Всего важнее хорошее общество». А святой Дионисий Ареопагит считал, что можно крестить и в детстве при условии, что родители поручат ребенка такому христианину, который хорошо наставит его в вере и будет далее заботиться о нем, как отец. Когда-то такое порой было возможно. А теперь?
— Все же опыт Церкви — это не только первые восемь веков, когда не крестили детей, но и практика нынешнего времени, то есть еще двенадцать веков. И это тоже опыт Церкви, и его нельзя отвергнуть. Мы можем смотреть на то, как входили люди в Церковь в первые века христианства, но мы должны понимать, что на протяжении истории было и иначе.
— Теперь очень хорошо видны плоды этого нового опыта. До 13-15 лет крещеного водят в храм, причащают, а затем его и след простыл. Одна из главных причин этого печального факта — что родители детей-то крестят, но сами, как правило, ничего не знают и не интересуются своей верой, поэтому не могут и детей научить. Семя, брошенное в землю, требует полива, удобрения, обработки почвы. А если этого не делать, если ребенку ничего не объяснять, не отвечать на его вопросы, не показывать пример христианской жизни, то кем он вырастет? Нельзя же смотреть на крещение как на действо, которое влияет на человека само по себе. Таинство не может никого спасти без его веры и правильной жизни. Апостол Павел даже так говорит: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11:29-30). Это строгое предупреждение распространяется на любое таинство. Ибо Бог поругаем не бывает. «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Почему мы не боимся этого?
— Вы сейчас говорите вещи, которые не всеми разделяются. И это Ваша личная богословская позиция, но есть и другое мнение. И в этом смысле я хотел бы Вас спросить о том, где мы можем расходиться во мнениях, а где это невозможно?
— На этот вопрос хорошо отвечает наш знаменитый церковный историк В. В. Болотов в своей статье «К вопросу о Filioque»: «Никто не властен воспретить мне в качестве моего частного богословского мнения держаться теологумена, высказанного хотя бы одним из отцов Церкви, если только не доказано, что компетентный церковный суд уже признал это воззрение погрешительным... [Но] если этого теологумена не держусь я сам, я все же не имею права осуждать тех, которые ему следуют».
Мысли, которые я озвучиваю, не мои, я всегда их подтверждаю прямыми святоотеческими высказываниями. Когда же речь идет о церковной практике, то здесь, конечно, возможны расхождения, они всегда и были в истории Церкви. Но в любом случае необходимо, чтобы такие расхождения не затрагивали условий спасения человека. Так, верим ли мы, что для спасения необходимо личное участие и вера человека или это вовсе не обязательно? Но тот факт, что в нашей Церкви введены специальные катехизические беседы перед крещением, уже отвечает на этот вопрос и свидетельствует об отношении к изначальной церковной практике.
— На Ваш взгляд, богослужение — это действительно форма проповеди? Можем ли мы миссионерствовать через богослужение?
— Все зависит от характера богослужения: какое мы слышим пение — церковное или концертное; как проходит богослужение — строго, без суеты и хождений, или с театральными фото-, теле- и киносъемками. Очень сомневаюсь, что эти концерты и съемки могут способствовать миссионерству.
Если речь идет о Литургии, то ее, по-моему, никак нельзя рассматривать в миссионерском ключе. Она всегда была только для причащающихся, поэтому до настоящего времени слышим: «Оглашеннии, изыди́те», — а тем более на ней нельзя присутствовать вообще посторонним людям. Исходя из назначения Литургии, на нее не должны бы приходить даже те верующие, которые не могут причащаться. Здесь, правда, Церковью сделана очень мудрая уступка: если не можешь причащаться, то все же побудь, помолись на Литургии до момента причащения, покайся, что не можешь сегодня причаститься.
На остальных богослужениях, мне кажется, могут присутствовать другие люди — может быть, что-то коснется их души.
Молитва не связана никакими границами
— Интересна Ваша точка зрения на то, как священнику совершать свою часть богослужения. Сейчас все молитвы читаются многими батюшками вслух, но некоторые по привычке продолжают читать их тайно или тихо, настаивая на их сакраментальной значимости, на том, что они якобы не должны доноситься до слуха верующих.
— Они просто не поняли смысл словосочетания «тайная молитва». Она совсем не «секретная» для непосвященных, а исполненная сокровенного, глубокого, Божественного содержания. Тайные молитвы, особенно Евхаристического канона, — потрясающи по своему догматическому и духовному содержанию! Всем бы надо их услышать. Как много теряет верующий народ, что не знает их. Негативную роль играет здесь, конечно, и иконостас, отделивший пастырей от народа. Это началось еще в VI веке.
— Одной из новых составляющих нашей постковидной церковной жизни стали регулярные трансляции богослужений. И в этом смысле возникли дискуссии о том, насколько человек, смотрящий трансляцию из своего храма, является участником совершаемого богослужения.
— Дело тут вот в чем. Мы делаемся участниками молитвы не тем, где мы находимся, а как мы в ней участвуем. Можно в церкви стоять и бродить мыслями по всему миру. А можно и дома слушать богослужение и действительно молиться. Но, конечно, в храме нам, простым людям, легче, естественнее. Однако обстоятельства бывают разные.
Больной человек, который по объективным причинам не может присутствовать на храмовом богослужении, будет рад трансляции. У меня мама умерла на Преображение, ей было 93 года. Накануне она слушала всенощную дома и сказала: «Ой, как хорошо я побыла на службе!» Так она смогла перед смертью посетить преображенское богослужение. Была она на нем? Конечно. Ведь молитва не связана никакими границами храма, дома, пустыни, леса, пещеры...
— Продолжающаяся эпидемия, наверное, очень многое в Церкви сделала явным. Как Вы думаете, мы должны извлечь некоторый опыт из всего того, с чем нам пришлось столкнуться в ковидные времена, или это просто печальная страница, которую нужно поскорее перевернуть и забыть?
— Прежде всего, это время показало, насколько для нас внешняя сторона религии (ее формы, обряд) оказалась важнее содержания. Обнаружилось, что многие из нас скорей те же иудейские законники и фарисеи, которых с таким гневом обличал Христос, нежели Его ученики. Когда главное для верующего — не помолиться, а во что бы то ни стало прорваться в храм; не возлюбить ближнего, а помазаться маслом; не спокойно, по-христиански оценить и принять или отвергнуть медицинские рекомендации, а с осуждениями и проклятиями обрушиться на всех, кто не согласен с «моей» истиной. Это уже не христианство, а религия духа противления.
Вывод очевиден. Основная масса наших христиан, при всей своей искренней ревности, очень плохо, к сожалению, понимает христианство.
— Часть всей этой ковидной истории — это вакцинация. Как богослов, как Вы думаете — в прививках есть что-то имеющее отношение к нашей вере или нет? Вот выбор хочу — не хочу, буду — не буду, нравится — не нравится, прививаться — не прививаться может быть религиозно мотивирован?
— О религии, о православной вере здесь даже и речи не может быть. Сколько прививок делается, когда человек рождается, сколько уколов мы за свою жизнь получаем, — но таких фантазий, таких религиозных выдумок, как сейчас, по-моему, никогда не было. У меня такое впечатление, что кто-то, зная суеверную слабинку нашего народа, сознательно возбуждает эти страхи, чтобы создать в обществе нездоровую атмосферу неприязни, вражды, возмущения. Хотя очевидно же, что вакцинация — это вопрос чисто медицинского характера и каждый волен поступать исходя из своих соображений.
— Вашим духовным наставником, пастырем был замечательный священник отец Никон Воробьев. Скажите, пожалуйста, несколько слов о нем и о том духовном опыте, который Вы получили и, наверное, много раз использовали.
— Отец Никон был разносторонне образованным человеком. Прекрасно знал историю философской мысли, немецкий и французский языки, великолепно разбирался в русской и зарубежной классической литературе, преподавал математику в школе, хорошо рисовал, играл на скрипке, был настоящим садоводом и так далее. Но все это он вменил в ничто ради той драгоценной жемчужины, которую чудесным образом нашел в христианстве после отчаянных исканий.
Отец Никон прекрасно знал творения святых отцов, которых изучал непрерывно. Обладая редким даром рассуждения, он был действительно духоносным наставником. Имел, хотя тщательно это скрывал, дар чудотворения. Приведу яркий пример. Представьте себе мальчика пятнадцати лет, который не рос. Вдруг отец Никон в конце мая говорит ему: «Встань-ка к двери». Берет линейку и отчеркивает его рост карандашом. И затем каждые примерно три дня опять ставит его к той же двери и отчеркивает: «Смотри — прибавилось!» Так продолжалось три месяца. В конце августа батюшка вдруг перестает его измерять. А мальчик уже просит: «Батюшка, измерь меня». И получает странный ответ: «Ты что, хочешь быть выше Христа?» Рост полностью окончился так же неожиданно, как и начался. Но когда мальчик 1 сентября пришел в школу, весь класс ахнул — настолько он подрос. Это только одно из многих его чудес. Что замечательно при этом, все они совершались как бы незаметно, без какого-либо эффекта, как будто так и надо.
— В начале интервью Вы сказали о нравственном состоянии человека как условии для начала богословия и, с другой стороны, о знании как о еще одной составной части идеального богослова. Для Вас отец Никон был таким примером настоящего христианского духа, объединяющего оба начала?
— Да, отец Никон был и кораблем, нагруженным знаниями, и настоящим подвижником. Я это знаю, поскольку несколько лет жил вместе с ним. Он поздно ложился и очень рано вставал, мало ел, много физически работал в саду. Вина в доме не было. Подолгу молился, особенно накануне совершения Литургии. Был чрезвычайно худым, но энергичным. Лицо совсем без морщин, хотя волосы полностью седые. Его прозорливость часто удивляла. Иногда по утрам на отца Никона невозможно было смотреть — от него исходил какой-то особый свет. Я, мальчишка, горячо спорил с ним обо всем: о бытии Бога, о догматах, о католиках и протестантах, о разных религиях, о жизни Церкви, о политике. Он спокойно выслушивал мои фонтаны красноречия, многое объяснял. Это был действительно благодатный человек. Больше таких я не встречал, хотя видел очень добрых, хороших, любвеобильных батюшек. Но они на меня производили впечатление маленьких детей по сравнению с этим удивительным старцем.
Батюшка открыл мне святых отцов, их чу´дные творения, разъяснил самые важные положения их аскетического учения; это было чрезвычайным открытием для меня. Он давал мне читать Жития святых, авву Дорофея, «Лествицу» — и тут же «Греческих мыслителей» Гомперца, «Историю древней философии» Виндельбанда, «Столп и утверждение истины» отца Павла Флоренского, богословские сочинения А.С. Хомякова и многое другое. Подготовил меня для поступления сразу в 4-й класс Московской духовной семинарии. Общение с отцом Никоном и его слова благодатно действовали на душу, но это непередаваемо. И при всем моем природном скепсисе, я не сомневаюсь в том, что это был человек святой жизни.