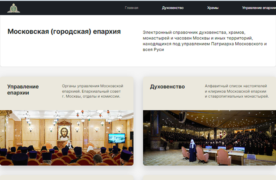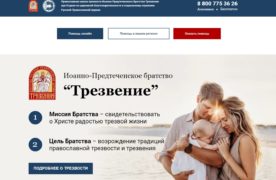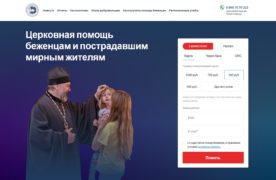Уникальная база материалов проекта «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху» составляется под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви всеми духовными школами на территории Российской Федерации. В рамках проекта своими воспоминаниями поделился врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма мучеников Флора и Лавра на Зацепе протоиерей Михаил Потокин.
Уникальная база материалов проекта «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху» составляется под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви всеми духовными школами на территории Российской Федерации. В рамках проекта своими воспоминаниями поделился врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма мучеников Флора и Лавра на Зацепе протоиерей Михаил Потокин.
— Расскажите, пожалуйста, в каком контексте Вы росли и что знали о христианстве?
— У меня семья светская была, конечно. Отец — коммунист, а мать не коммунист, но оба инженеры-строители были, и о Церкви в семье не говорили никак, ни хорошо, ни плохо. Отец, вообще, конечно, был крещеный с детства, потому что он 1911 года рождения, он крестьянин из Кинешмы, это Ивановская область, но сам по себе он мало что помнит, потому что ему было в 1917-1918 году 6-7 лет, поэтому сказать, что у него какое-то воцерковление было, невозможно. А потом война, а потом он пришел в Москву, и тут работал, потом учился, потом вот стал инженером, руководил довольно крупным институтом строительным и членом партии был.
В общем-то я в семье ничего о вере не слышал ни худого, ни доброго, ну как-то эту тему избегали, как и все остальные, потому что время было такое. Тогда о многом не говорили, ну или говорили как-то аккуратно, а тем более не при детях. Я помню, что как-то я подслушал какой-то анекдот политический, и потом с радостью рассказал его собравшимся родственникам, и они все в ужасе были, что я где-то друзьям в школе сейчас расскажу. Понятно, что ребенок не сам анекдот придумал, поэтому люди были тогда мудрые, и они при детях ни о чем таком не говорили, потому что он мог где-то сболтнуть, а компетентные товарищи понимали, что это не ребенок придумал, а придумали его родители. Поэтому, чтобы родители сами себя не подводили, они, даже если что-то и думали, то избегали говорить о том, что они думали.
Поэтому разговоров не было, но, единственное, что сильно повлияло на ситуацию с интересом к духовной жизни, это то, что в семье всегда много читали, было много классической литературы и библиотека всемирной литературы, были многие хорошие издания, собрания сочинений, и все хорошо читали — и отец, и мать, и цитировали, это было главное, наверное, занятие в семье. По телевизору тогда нечего было смотреть, а книги — не только источник знаний, но и источник радости. Поэтому я довольно рано начал читать, не скажу, что я понимал, что я читаю, сейчас я большей частью уже по-другому смотрю на литературу, которую я читал. Что школьник поймет в Достоевском, Толстом или Гоголе? Тем более, не зная ни Евангелия, ни Библии, не имея понятия о жизни души. Так, какой-то кисель школьный из примитивных знаний, материализм какой-то непонятный. И все равно интерес большой был, потому что чувствовал, что это живое. Когда ты не понимаешь, что происходит, но понимаешь, что это живое, настоящее, подлинное, то даже если не понимаешь, что речь идет о внутренней жизни, это все равно, как говорит молодежь, «цепляет», оно внутри как-то отражается. Поэтому и русскую классическую литературу, и зарубежную я читал и от этого я, наверное, приобрел интерес, вопросы стал задавать. А откуда вообще вопросы брать? Жизнь идет, учеба, школа, потом институт, надо заниматься. А вот литература — она как раз настраивала.
У меня был смешной случай, когда мы в 9-10 классе по Достоевскому писали сочинение. У нас всякое литературное произведение заканчивалось сочинением на основании пройденного. Вот, я писал сочинение, а у меня друг был, у которого дед был генерал. А генерал тогда — это человек, которому много позволялось, чего не позволялось обычным людям. У него дома было Евангелие, или Библия даже, издание такое на папиросной бумаге, из-за границы тогда привозили, и вот у них такое издание было. Я как-то зашел, взял его, полистал, и как-то у меня открылось на том месте, где нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, по-моему… Короче говоря, я взял у него книжку, почитал нагорную проповедь, взял оттуда цитату и вставил ее как эпиграф к сочинению. Сдал сочинение. Прибегает учительница и говорит: «Тебе к завучу». Иду к завучу, я был такой непослушный школьник, завуч меня вызывает — «Ты писал?» — «Я писал» — «Забери, — говорит, — тетрадку, и напиши без всяких эпиграфов, как положено по программе». Сейчас все так пишут по программе не то, что думают, поэтому как-то меня это не удивляет, но тогда это было для меня таким откровением, что взрослые тети испугались евангельских слов, написанных как эпиграф к сочинению по Достоевскому. Ну вообще, Достоевский настолько для меня был широк, что, наверное, любое евангельское слово бы подходило к тому, чтобы сделать его эпиграфом для сочинения по Федору Михайловичу.
— То есть Вы еще в подростковом возрасте, читая художественную литературу, начали задаваться духовными вопросами?
— Не начал я задаваться никаким вопросами, она просто мне нравилась. Духовные вопросы у меня не стояли никогда в повестке дня в детстве.
— А эпизод с цитатой из Евангелия — Вы понимали, что это будет наказуемо?
— Может быть, и понимал.
— То есть в этом был именно концептуальный интерес? Это подходило к тому сочинению?
— Нет.
— Вам хотелось, чтобы это было провокацией?
— Не могу сейчас вспомнить, это было давно. Но я помню, что все-таки интерес был именно к содержанию, это точно было. Хотя себя оценить в том возрасте я уже не могу.
Какие-то небольшие всплески были. Я помню, мы ездили в Троице-Сергиеву лавру на экскурсию, а это же действующий монастырь был, и я как-то зашел в Троицкий собор, а там шло причастие, и пел мужской хор, и как-то я поразился самой красоте того, что там происходит, потому что красота мне немножко была знакома с детства, родители любили и музыку классическую, и литературу. Я поразился, подумав: «Вот — гармония музыки, слова, архитектуры и иконы». Все, что там происходило, впечатление очень сильное оставляло, хотя я зашел на несколько минут.
— Это были школьные годы?
— Да, мы ездили на экскурсию с классом. Это же история России, тогда не имелось в виду, что это духовный центр.
— Как воспринимали это Ваши одноклассники? Им было интересно?
— Нет, совершенно не интересно. Но я с ними не делился этим, как-то мы это не обсуждали. У нас все-таки народ был довольно воспитанный, ну и потом мы не старались эти вещи обсуждать. Были другие темы, и их хватало, этого не касались.
— Мне рассказывали, что во время одной из таких экскурсий почти все дети купили крестики в конце, было что-то такое?
— Нет, я ничего не купил, и потом, как я надену крестик? У меня отец — коммунист. Он бы дал мне… крестик!
А потом уже, когда я в институте учился, у моего старшего брата был друг психолог, который нашел священника. Его другой друг психолог, как-то познакомился со священником, который служил в храме Иоанна Предтечи на Красной Пресне. Это был отец Георгий Бреев. Он с ним познакомился и побеседовал, и беседа эта глубоко поразила психолога, потому что советская психология тоже такая… Многие занимались лечением алкоголизма, а вопросы психологии именно как жизни души не рассматривались. Как изучать жизнь души в том обществе, где считается, что души нет? Где считается, что есть только материальные основания чувств, эмоций, но нет души. Как психологию души изучать? Вот поэтому сначала один психолог, потом второй, потом брат мой, а потом и я стали приходить к отцу Георгию. Ну, это уже немножко позже. Я, наверное, учился уже на втором курсе. Я в 1982 поступил, значит, это 1983-1984 год, да. Я тогда же крестился, в это время.
А дальше, я помню, что начиналась оттепель по отношению к Церкви, и на журфаке МГУ, это здание на Моховой, проходили такие семинары, где участвовали священники, приходили и многие ученые: и лингвисты, и филологи, и философы, и проводили такие семинары. На разные темы: по санскриту, например. Был интерес большой, потому что там собиралась интеллигенция, причем серьезная. Это серьезные уже ученые с большим опытом, которых интересно слушать. Потому что, одно дело — когда ты просто рассказываешь как дилетант: услышал какие-то фразы у кого-то, сложил их в мозаику и пересказываешь, и совсем другое — это рассказ человека, который десятилетиями изучал вопрос, и у него огромный опыт. И, конечно, это было очень интересно и необычно слушать, потому что такого раньше не было.
— Как назывались те семинары в МГУ?
— Не помню. Я мало туда ходил, помню, что это было на Моховой, где факультет журналистики.
— А кто там выступал?
— Всеволод, я не помню фамилии его, он востоковед был, еще кто-то, не помню. Там несколько было таких, из ИСАА, по-моему. Там выступали люди, которые уже верующими были, они семинары устраивали для себя и для студентов, для всех желающих, кто мог прийти.
— Это не методологический кружок был?
— Вот чего не помню, того не помню. Тогда все великие дела совершались на кухне в собрании интеллигенции. Интеллигенции, которая всегда была против, она собиралась на кухне и всегда все решала. Не знаю, насколько тогда это повлияло на мое настроение, не сказал бы, диссидентское, но, конечно, я будучи в школе, прочитал и Солженицына, и Зиновьева. И, конечно, процессы, которые происходили уже тогда, в период застоя, огромное количество политических анекдотов, и жизнь вся как анекдот, «Малая земля»[1], которую я читал на французском языке, и московские новости — все это, конечно, не добавляло мне патриотизма, или уважения.
Мы писали сочинение «Тема народа в лирике Пушкина». Понимаете, видно было, что взгляд искусственный. И это вызывало внутреннее сопротивление. Потому что Пушкин очень живой. Он не религиозный поэт, но он верующий человек. Он верующий именно живо. И поэтому в его произведениях вера всегда есть. Но вот взять его произведения и начать из них выжимать тему народа — это какой-то кошмар.
Плюсом к этому было, конечно, и то, что Церковь всегда была тогда в оппозиции. Власть ругала Церковь, над ней смеялись, пытались оклеветать. И вдруг оказалось, что не частично даже, а просто полностью, совершенно все наоборот. То есть те, кто пытался составить какую-то антицерковную программу, на самом деле были совершенно безосновательными в жизни людьми. Это были популисты, это были люди, которые только потрепаться могли. А люди серьезные, ученые, артисты как-то вдруг оказывались ближе к Церкви. То есть оказалось, что на самом деле в Церкви очень много серьезных и глубоких людей. Это были люди разных совершенно профессий, разных взглядов. Это было собрание очень достойное. И когда ты понимал, что надо идти куда-то на комсомольское собрание… Я уже, по-моему, в школе понял, что туда ходить не надо. Но во всяком случае, понятно было, что это все формально, все это пусто, все это никчемно. Что это только нужно для карьеры каких-то людей, которые через комсомол, через партию пытаются как-то пробраться к высшей эшелонной власти. А власть сама уже тоже безмолвствовала, потому что говорить было сложно из-за инсультов, инфарктов и так далее. Был такой анекдот: 26-й съезд партии начинается, просьба политбюро внести. В такой атмосфере увидеть что-то живое, настоящее, подлинное было удивительно.
Потом, конечно, повлиял институт мой, потому что у нас все-таки хороший вуз, я в МФТИ учился, и у нас отношение к знаниям очень определенное: истина превыше всего. Истина, то есть уравнение, не зависит от воли партии. То есть ты решаешь уравнение, как бы партия тебе не сказала, решение все равно правильное, то, которое правильное решение. Вне зависимости от политики, от идеологии, от твоих взглядов. Пускай такая узкая математическая истина, но она истина, она права. И она не зависит от взглядов людей, не зависит от их пристрастий, от их карьерных задумок. Вот это тоже подстегивало искать именно подлинного чего-то. Того, что не зависит от мнений людей, от политических взглядов, от каких-то нужд сиюминутных. То, что настоящее, что называется вечное. Наука обращена в вечность. Она, к сожалению, не может открыть вечный закон, потому что он другой, он не научный. Но она ищет именно подлинный закон. То есть ученый — это человек, который старается быть как можно более честным. Я имею в виду настоящего ученого. Честным по отношению к себе, к своим коллегам, к той теме, которой он занимается. Поэтому здорово, что мне удалось позаниматься когда-то среди таких людей. Я сам никак не ученый. Я поработал в этом совсем чуть-чуть, это не считается. Но я работал с людьми, которые занимались наукой. Я понимаю, как это здорово, и что это тоже подлинное дело. Знаете, как это внушает вкус к настоящему? А когда ты идешь в Церковь, ты понимаешь, что там тот же вкус: это настоящее, это подлинное. Причем ты понимаешь это не на уровне знаний, мозга, или каких-то заключений, а именно чутьем понимаешь. Как понимаешь чутьем, что ты уравнение правильно решил, когда ты получил красивое решение. Ты еще его не проверил, ты еще не подставил, еще не просмотрел все варианты, но вдруг все лишние дроби ушли, и осталась в чистом виде простая, хорошая, красивая формула. Вот эта простота и красота, как критерий науки, критерий истинного решения, присуща была Церкви во всем, что касается богослужения, богословия. В церковной жизни все просто, красиво и глубоко. И это роднило подлинную жизнь в науке и подлинную жизнь в Церкви.
Для меня это тоже было одним из критериев. Я почувствовал, что здесь, действительно, есть то настоящее, что не какими-то дифирамбами прикрыто, как одежда сверху надета, а в глубине своей это подлинное, настоящее, то, к чему следует проявить интерес и жить этим. Потому что серьезное отношение, я считаю, и серьезное образование дает возможность почувствовать и понять подлинное не только в науке, не только в той теме, которой ты занимаешься. Оно дает понять подлинное в жизни.
Когда мы говорим об искусстве и о Церкви… Искусство может быть делом вкуса. А Церковь глубже, чем искусство. Это, конечно, не сравнить никак. Здесь есть жизнь, и ее можно почувствовать. Занимаясь наукой, можно было почувствовать. Поэтому я понимаю ученых, многие из которых обратились к Церкви в те времена, потому что подлинного осталось очень мало. Ни в политике, ни в общественной жизни подлинного не было. Была какая-то ужасающая карикатура на человека нарисована. И этот человек шел в коммунистическое будущее, в которое уже никто не верил. Даже в политбюро уже не знали, куда его девать, это будущее. Хрущев объявлял, что оно в 1980 году наступит. И вот в 1980 году прошла Олимпиада, а коммунизм не наступил. То есть наступила Олимпиада вместо коммунизма. И никто не понимал, что теперь? Социализм построили, а дальше что? И когда это? Они же все говорили, что скоро будет, через 20 лет… И поэтому подлинного не было вокруг ничего. В науке, в искусстве было подлинное. И, конечно, люди, когда это чувствовали, открывали то же самое в Церкви.
В основном, конечно, на меня повлияла в выборе веры личность духовника. Здесь никаких вопросов быть не может. Если бы я не встретил отца Георгия, я не знаю, пришел бы я к Церкви, или нет. Бог знает, как Небесная канцелярия бы решила, но одним из самых существенных моих шагов было знакомство с отцом Георгием и общение с ним.
Потом уже, после того, как я крестился, я начал читать какую-то литературу, хотя ее было мало, и очень дорого было покупать эти ксероксы. Они прятались, были люди, которые могли размножать литературу, потому что еще было запрещено это все. И, конечно, меня поразило это, потому что я никогда не думал над тем, что душа имеет вот такую глубину, что есть ученые в разных областях знаний, а есть святые, которые знают все про душу, причем знают не только теоретически, но практически, потому что сами прошли духовный путь. Вот это для меня было таким открытием! Меня очень глубоко поразила книга Концевича «Оптина пустынь и ее время», «Старец Силуан», тогда многие это читали. Разные книги про разных святых, и конечно, это тоже было толчком к приобретению веры, хотя нельзя сказать, что я был воцерковлен, я ничего не понимал тогда. Про причастие, про исповедь я как-то слышал, мне знакомые прихожане рассказывали: «Три дня постись, это читай». Но это все читалось, сами понимаете, с надеждой, что когда-нибудь я пойму, что я читаю. Поэтому не было какого-то яркого события, которое меня бы привело, скорее это было постепенное вхождение в Церковь. В то же время это было связано именно с глубоким интересом, потому что оказалось, что духовные вопросы такой широкий спектр охватывают, и это начало как-то сочетаться с той литературой, которую я читал, с художественной литературой. Я как-то посмотрел: «Боже мой, как же так-то? Все же понятно теперь, откуда что!» Это тоже меня подтолкнуло к выбору церковного пути. Хотя я не говорю, что я стал в Церковь ходить, ежедневно молиться. Я пробовал молиться, у меня не получалось, я ходил в церковь, но не понимал, что там происходит. Мне нравилось. Я приходил на Пасху, конечно, на Рождество, в большие праздники, и потом, уже когда институт закончил, я почаще стал ходить и причащаться стал в великие праздники.
А потом отцу Георгию дали приход в Царицыно[2]. Это даже не приход был, это был завод. Ему дали завод, который когда-то был церковью. В XVIII веке построили церковь, а потом переоборудовали ее в завод. Я как пришёл туда… увидев разруху, я сначала подумал, что церкви не будет: бетоном залит пол, второй этаж построен, все кирпичом заложено, пахнет краской и пилорамой, там была пилорама. Опилки кругом, рельсы, бревна… И это после храма на Красной Пресне, храма Иоанна Предтечи, куда я ходил, где храм не закрывался, иконы, мозаика, а здесь — не пойми, что. И начались субботники. Мы приходили, храм еще был закрыт, еще службы не было, вернули его где-то весной 1990-го года, мы стали ходить весной, разбирали мусор, выносили бревна, опилки, стекла битые. И вот в этот момент у меня решение созрело по поводу того, чтобы все-таки идти помогать церковь строить, потому что там здание, конечно, сохранилось, но внутри полная пустота была.
Тогда я в храм и пришел более основательно. И воцерковление уже более-менее разумное началось с того, что я начал участвовать в службе: читать и петь на клиросе, и тогда у меня начало складываться понимание богослужения, это было вхождение в литургическую жизнь Церкви. Потому что до этого, да, мне нравилось стоять, но я иногда уставал: долго, душно… А вот когда я стал читать и петь на клиросе, тогда мне стало настолько интересно, настолько это увлекло! И тексты изумительные, и само действо литургическое. Ну, конечно, я после этого уже и алтарничал, и уже как-то основательно укрепился, утвердился в церковной жизни, ушел из аспирантуры и остался в церкви в Царицыно помогать. Сколько-то лет я там читал, пел и помогал в алтаре, потом мне поручили еще социальный центр открывать при храме, в общем, разные, как у нас в Церкви говорят, послушания у меня были. Я уже был внутри, я этим жил, за все брался, мне было легко с этим.
***
[1] мемуары генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в художественном переложении которых принимали участие советские профессиональные журналисты.
[2] храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне.
Дата записи интервью: 7 сентября 2022 года