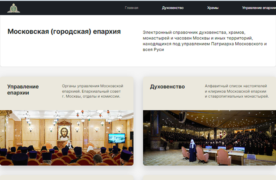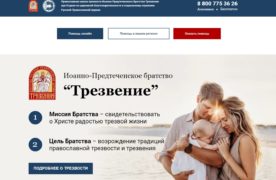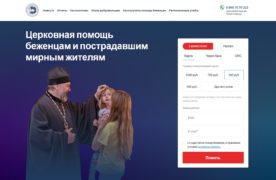Уникальная база материалов проекта «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху» составляется под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви всеми духовными школами на территории Российской Федерации. В рамках проекта своими воспоминаниями поделился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерей Валентин Тимаков. В его интервью для проекта — воспоминания о протоиерее Всеволоде Шпиллере и митрополите Сурожском Антонии, истории из семинарской жизни 1980-х и еще много интересного.
Уникальная база материалов проекта «Память Церкви. Беседы со свидетелями жизни Церкви в советскую эпоху» составляется под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви всеми духовными школами на территории Российской Федерации. В рамках проекта своими воспоминаниями поделился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерей Валентин Тимаков. В его интервью для проекта — воспоминания о протоиерее Всеволоде Шпиллере и митрополите Сурожском Антонии, истории из семинарской жизни 1980-х и еще много интересного.
— Отец Валентин, Вы происходите из семьи священника. Ваш отец, ныне уже митрофорный протоиерей, поэтому прежде всего хотелось бы услышать Ваши воспоминания о служении Вашего отца в тот период жизни Церкви и вообще о том, что представляла из себя жизнь семьи православного священника в советскую эпоху?
— Ну что ж, действительно своеобразная страница в нашей истории, и во многом, конечно, она очень любопытна самыми разными противоречиями, радостями, горестями, обретениями и потерями. Я из семьи столичного священника. Мой отец вначале отучился в семинарии. Московскую духовную академию он успешно окончил в 1955 году. Тогда кадровый голод был силен, поэтому священников такого уровня образования посылали в центральные приходы Москвы. Отца послали штатным клириком в Николо-Кузнецкий храм, где настоятелем был протоиерей Всеволод Шпиллер. Здесь отец прослужил около 30 лет. В нашей семье трое детей, я старший.
Политическая ситуация была такова, что православные люди формально не были лишены прав, но реально — да. Было некое противостояние с обществом, которое нас не принимало. В 1960-1970-е годы, когда советская власть уже нажила свой опыт, и период 1930-х годов давно уже миновал, священства было ничтожно мало, священникам было запрещено ходить по улице в рясах, подрясниках, поэтому священника люди никогда нигде не видели. О священнослужителях не упоминалось ни в прессе, ни на телевидении, ни в газетах. Поэтому и семьи священников жили в определенной атмосфере. Эта нелегкая ситуация требовала известной твердости, выживаемости, потому что приспособиться было практически невозможно. Среда отвергала Православие, христианство, веру вообще. В атмосфере 1960-х годов витал дух, соответствующий знаменитым словам Хрущева, обещавшего показать по телевизору последнего попа. Считалось, что скоро это все просто отомрет за ненадобностью.
Мне в этом смысле было с одной стороны тяжело, но с другой стороны, мне необычайно повезло с местом служения моего отца и с тем клиром, в который он попал. Это связано во многом, конечно, с фигурой и личностью протоиерея Всеволода Шпиллера, очень известного в кругах московского священства. Он был мигрантом, приехал из Болгарии в Москву в 1950-х годах, здесь начал служение. В его личности соединялись образование, культура, необычайно острый ум, дипломатические способности, огромные дружеские связи по всему миру. Он был направлен в Николо-Кузнецкий храм, который сейчас является центральным храмом Свято-Тихоновского университета.
Еще из известных священнослужителей помню протопресвитера Виталия Борового в Елоховском соборе. Он также честно нес тогда православное просвещение.
Вокруг храма собирались умнейшие люди, и я окунулся в православную культуру с самого раннего детства. Отец Всеволод меня крестил, из купели крещения вынимал меня своими руками, поэтому я его очень-очень чту. И хорошо помню все: мимику, жесты, проповеди, манеру общения.
У нас сложился достаточно интересный ареал. С одной стороны, была абсорбция от общества, с другой стороны, в общности с ним не было никакой нужды, потому что она была изнутри храма. Мой отец, талантливый ученик протоиерея Всеволода, сумел создать из прихожан храма эту общность, и в нашем доме постоянно были гости, велись бесконечные богословские разговоры. Такого уровня людей, такого общения и подобных бесед я не видел ни в школе, ни в светских учебных заведениях. Удивительно, но услышанное мною в 7 лет я помнил до мельчайших подробностей и в свои 40. Я практически не видел равных в окружении светского мира, совершенно ничего подобного, потому что те учителя, которые там были, преподаватели в школах — это было очень примитивно по сравнению с ними.
Отец определенные принципы, конечно, в нас заложил. Он отдавал отчет, что мы находимся в полемике с окружающим миром, который был враждебен идеологически, все окружающие ребята дразнили нас «попами» сплошь и рядом. И при этом он находил очень грамотные решения, чтобы все наши вопросы, сомнения, мы всегда умели разрешать, обращаясь к нему, и никогда не отказывал в ответах на эти вопросы. В этом был, конечно, огромный успех. Я помню совет отца нам, детям: «Ничего не бойтесь». Он учил нас, что необходимо приходить к нему и рассказывать о любой ситуации, чтобы вместе найти выход. Я благодарен отцу за воспитание, благодаря которому, несмотря на эту полную обструкцию со всех сторон, у меня не было комплекса неполноценности. Я благодарен, что с детства видел таких глубоких личностей, как митрополит Владимир (Сабодан), митрополит Филарет (Вахромеев), митрополит Антоний Сурожский, который заезжал к нам время от времени, архиепископ Василий (Кривошеин). Целый сонм священства создавал благодатную атмосферу, помогающую преодолеть тяготы внешней жизни.
— Отец Валентин, как происходил Ваш переход от всего, чему Вас научили родители, к вере как личному выбору?
— Все оказалось очень просто. Мои родители безупречно подготовили меня в вопросах веры. Поэтому у меня не было никаких разногласий между моей личной верой и тем, чему меня научили. Поэтому впоследствии я органично пришел в семинарию и в академию, отслужив в армии. Благодаря моему отцу у меня всегда была цельность жизненного пути. Мой отец всегда имел горячую веру в Господа, а также любовь к образованию, к богословским наукам. Совмещение высокого богословия и личной молитвы у него всегда было необычайно органично. Он очень любит учиться и продолжает это делать в свои 95 лет.
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашей жизни советского школьника и сына священника.
— Отношение ко мне, сыну священника, было враждебное, и мое счастье, что оно никогда не переходило в откровенную травлю. Было только глухое неприятие. Я не афишировал и никому из ребят не говорил о своей семье, да и товарищей-друзей в школе у меня вообще не было.
Какие-то приятели у меня были там, где мы жили. С этими ребятами мы бегали, играли около дома. В общем, компания какая-то была, но никто из этих ребят другом мне не стал. Может быть, я сам не был достаточно открытым и общительным.
Но когда я был призван в армию, то с удивлением обнаружил, что здесь вообще никто не знает, кто я, из какой семьи. Очень странно, что в роту, где я служил, об этом не сообщили. А я, думая, что за мной все еще следят, после окончания службы не пожелал далее общаться со своими сослуживцами и уехал, не оставив никому своего адреса. Я, конечно, сделал грубейшую ошибку. Мои соратники позднее меня нашли, и теперь мы встречаемся по несколько раз в год во главе с командиром роты. Нас собирается человек шесть из роты, и я поражаюсь тому, какие все-таки хорошие люди в то время были! Они меня нашли в семинарии. Один из сослуживцев, Андрей Алексеевич Коровцов, узнал, где я учусь, подстерег меня, когда я выходил из академического сада. Я обомлел, очень удивился. С тех пор мы уже не расстаемся, несмотря на разные взгляды. Среди нас есть и атеисты, но мы все равно собираемся и вспоминаем минувшие дни.
— Были ли в Вашей жизни случаи, когда приходилось открыто защищать свою веру?
— Да, такое было. В советском обществе мы, верующие, не могли себя проявлять открыто и смело, поэтому внешне выглядели молчаливыми и забитыми, больше молчали. Даже когда нас, детей, дразнили, мы тоже молчали. Представители общественности приходили к нам домой, в основном это были педагоги. Я помню несколько таких сцен. Мой отец встречал их достойно, он многократно превосходил приходящих по эрудиции, знаниям, уму. В общем, зря они приходили, этого не надо было делать, конечно. Но они просто не знали весовой категории. Поговорив с ним, воспитатели удивлялись его уму и уходили. И после этого все возвращалось на круги своя.
Перед призывом в армию я работал в Третьяковской галерее, где тоже встретил нападки из-за своей веры. Я всегда был в оппозиции, тогда еще мало знал. Я участвовал в словесных сражениях с ребятами, которым было 18, 20, 25 лет. Рабочая бригада дала мне колоссальную прививку в этих спорах. Мы носили холсты и рамы при реставрационных мастерских и спорили по вопросам веры. Все споры, в которые приходилось вступать, были беспрерывной, сплошной войной.
Позднее, когда я прослушал лекции на филологическом факультете, прошёл консерваторию, о многом узнал в философском кружке А.Ф. Лосева, я научился грамотно защищать свою веру.
— Хотелось бы также узнать о том, как и когда Вы приняли решение стать священнослужителем?
— Никаких вопросов у меня с принятием этого решения не было. Мы с братом с шести лет всегда «служили в храме» — в детстве в нашем доме мы играли в храм: двустворчатые двери комнаты были у нас царскими вратами, сооружали какие-то фелони для себя, кружка на веревочке была кадилом, домочадцы выступали в качестве хора.
Мой отец хотел, чтобы его сыновья стали священниками, но перед этим отслужили в армии, сначала окончили какой-нибудь институт, а затем отучились в семинарии. Отцовский план я реализовал. Помню, когда я поступил в семинарию, я смотрел на четверокурсников академии с крайним сожалением: они уходят отсюда, все, их счастье кончилось, а у меня-то еще 8 лет! Благость, что Господь это мне дал, что у меня это все пролетело в один миг.
— Когда Вы поступали в семинарию, встретились ли Вы с какими-либо внешними препятствиями, связанными с советскими властями и их давлением?
— Да, препятствия были. Власть предержащие дали указание, чтобы на учебу в семинарию не принимали москвичей, особенно с уже имеющимся у них высшим образованием. Поэтому я бы туда не поступил, но мне помог старый друг отца — преосвященный Владимир (Сабодан), который был ректором семинарии. И поэтому, несмотря на то, что у меня шанса вообще практически не было, он помог мне при поступлении и в семинарию, и в академию.
— Расскажите, пожалуйста, о жизни Московской духовной семинарии и академии 1980-х годов.
— Это была превосходная жизнь. Учились славные ребята, безусловно, лучшие по нравственному, духовному и волевому устремлению того времени. Отбор производился очень строгий. Многие из поступивших стремились к монашеству: четыре человека из десяти собирались уйти в монахи.
Большое внимание уделялось музыкальной культуре. Регент отец Матфей (Мормыль) был талантливым самородком. Он привил нам любовь к пению, мы пели везде: за столами, каждую перемену начинали петь какую-нибудь херувимскую. На всю жизнь я запомнил удивительное благочестие учащихся, которое не было наигранным, они умели и шалить, но как только перемена — они собираются сразу и поем херувимскую Бортнянского. Вот это, конечно, само по себе о многом говорит. Бесконечные ноты, партитуры, атмосфера разных кружков. При том, что литературы у нас не было там совершенно никакой. Вот эта атмосфера между ребятами, она, конечно, была превосходная. Был инцидент однажды, кто-то в светской прессе обвинил семинаристов в неподобном поведении. Там расписали, что это просто разбойники, а главным криминалом было то, что семинаристы по вечерам подушками кидаются. Я, когда это вычитал, сказал: «Господи, какая красота!» Это то, что они высосали из пальца, весь этот разбой выражался только в этом. На самом деле это было. Кому-то завязывали брюки узлом на построении на молитву, было такое на самом деле. Но при этом всем мне виделась и удивительная атмосфера подлинного благочестия, не наигранного.
— Были ли среди преподавателей яркие личности, вдохновляющие своим примером?
— Конечно, были. Нашими умами владели Алексей Ильич Осипов и Константин Ефимович Скурат. Я остаюсь в благоговейном трепете перед духовностью и трудами Осипова. Мне очень запомнились протоиерей Геннадий Нефедов — преподаватель литургики, и протоиерей Владимир Иванов — по церковной археологии. И, конечно же, сам ректор, владыка Владимир (Сабодан), который был умен, очень хорошо образован, великолепно читал лекционный материал, готовил выступления и доклады. В нем сочеталось благочестие и богословие.
—Расскажите, пожалуйста, о ярких церковных деятелях ХХ века, с которыми Вы встречались.
— Я хочу рассказать о протоиерее Всеволоде Шпиллере и митрополите Антонии (Блуме). Меня поражала их высокая духовная и интеллектуальная культура.
Чем дольше я жил, тем больше ценил качества отца Всеволода, который, будучи настоятелем храма, успевал очень многое: совмещал литургические, административные, дипломатические, хозяйственно-экономические, личные дела. Ведь необходимо так организовать службу, чтобы было торжественно и благочестиво, это требует очень больших усилий. Его всегда окружало большое количество людей: три-четыре хора, алтарники, прихожане, то и дело встречаются ошибки. Но я никогда не видел, чтобы отец Всеволод допустил взрыв гнева или эмоций, хотя стрессовых ситуаций было много. Поразительно, какие с ним были замечательные архиерейские службы! Его лексика, выражения, которыми он пользовался, отличались большим умом, известной очень тонкой иронией и необычайной уравновешенностью. Вот этот аристократизм в лучшем виде мне запомнился. Восхищаюсь широтой души, самообладанием, выдержкой протоиерея Всеволода.
То же самое я могу сказать о митрополите Антонии (Блуме). В тех многочисленных случаях, когда он приезжал в академию, к нам домой, в храм, все, что я видел — это, конечно, было необычайное благоговение и выдержка. Никогда ни полслова поперек, никаких окриков и возмущений — это его поведение на службе в храме и в жизни. Он страдал профессиональной болезнью — сильными болями в позвоночнике, но не оставлял службы. Превозмогая боль, по нескольку часов оставался на ногах, будучи уже в преклонных летах.
Помню, как митрополит Антоний приезжал к нам, в девятиэтажку, в гости. Мой отец попросил меня встретить митрополита у машины. Я встречаю его и провожаю до лифта, а люди, которые ходят вокруг, смотрят так, что если бы слона индийского привести, это было бы меньшим впечатлением, чем когда он в рясе, в панагии идет, входит в лифт. Они шарахаются от него все, и вот насколько его реакция была любвеобильной, что она все скрадывала и все сразу уравновешивала. Я, тогда шестнадцатилетний, навсегда запомнил его самообладание и духовный талант, который выражался в его удивительных улыбке, доброй шутке и ласковом слове. Сколько раз я ловил себя на мысли, что я так не могу, у меня так не получается.
Дата записи интервью: 1 января 2024 года